.
КСЕНИЯ ПЕТРОВНА ГЕМП
1958 г.
От составителя:
Ксения Петровна Гемп, ур. Минейко (1894-1998) – человек легендарный в городе Архангельске, где она прожила почти всю свою жизнь. Архангелогородцам повезло – многие из них знали ее лично. Остальные знают ее по ее книгам, самые известные из которых – «Сказ о Беломорье» и «Словарь поморских речений».
Посмотрите на годы жизни этой замечательной женщины и не удивляйтесь, здесь нет ошибки – да, она прожила более ста лет. Родилась она в Петербурге, где ее родители, архангельские дворяне, в то время учились, отец – в Технологическом институте, мать – в консерватории. По окончании института отец, инженер-технолог (что в те годы значило гораздо больше, чем сейчас) вернулся с семьей в Архангельск, где стал крупным специалистом по изысканию и строительству морских портов на побережье Белого и Баренцева морей, и многое сделал для своего города. Семья была высоко образованной и интеллигентной, в их доме собирались ученые, исследователи, культурные деятели того времени. С детства окруженная талантливыми и творческими людьми, Ксения с серебряной медалью закончила женскую гимназию, затем педагогический класс, получив диплом домашней наставницы по русскому языку и математике. Потом поехала в Петербург и поступила на Высшие женские курсы, более известные как Бестужевские – первый и единственный в то время женский университет. Блестяще закончила историко-филологический факультет и летом 1917 года вернулась в Архангельск, где начала преподавать.
Революция резко изменила жизнь семьи. Отец погиб в 1920 году при невыясненных обстоятельствах, мать через год умерла в лагерях от тифа. Ксения продолжала преподавательскую работу, но в 1925 году оставила ее, объясняя это болезнью сына, хотя реальной причиной было, скорее всего, «неблагонадежное» происхождение.
С февраля 1925 года и до самого выхода не пенсию (1974) она проработала в области альгологии – науке по изучению водорослей. Более тридцати лет возглавляла Центральную водорослевую научно-исследовательскую лабораторию, став ведущим специалистом-альгологом и опубликовав более 70 научных работ. В годы Великой отечественной войны работала над получением пенициллина в Архангельске, организовала производство пищевых продуктов из водорослей в блокадном Ленинграде. После войны стала инициатором искусственного разведения анфельции в Белом море, на Соловецких островах, в возрасте 75 лет спускаясь с аквалангом на дно…
Волею судьбы альгология стала главным делом жизни Ксении Петровны Гемп, но она никогда не забывала свое первоначальное увлечение и в душе оставалась историком и филологом. Вместе с мужем, тоже историком, собирала древние рукописи, карты и книги, работала в архивах, вела обширную переписку с учеными из других городов. Ее научная и общественная деятельность не имела границ, только перечисление ее заняло бы несколько страниц. Член научно-методического совета областного краеведческ ого музея, член ученого совета областного исторического архива, лектор общества «Знание», ученый секретарь Архангельского отдела Всесоюзного географического общества, консультант художественных фильмов «Михайло Ломоносов» и «Россия молодая», и прочее, и прочее, и прочее… Она была настолько занята, что у нее, может быть, никогда не хватило бы времени написать те две книги, которые сделали ее знаменитой, если бы не несчастный случай – в 83 года она сломала ногу и впервые оказалась прикованной к своей маленькой квартирке на набережной Северной Двины, д. 100. Только тогда взялась она за расшифровку старых стенографических записей, которые вела всегда, в каждой поездке, в каждой командировке, в каждом соприкосновении с местными жителями, коренными поморами, внимательно слушая и записывая то, что считала величайшим богатством – слово поморское. Книги эти мы уже упоминали, это «Сказ о Беломорье» и «Словарь поморских речений». К какому жанру их отнести? Мемуары? Этнографические заметки? Филологический труд? Я бы, скорее, назвала их песней души, песней о том, что Ксения Петровна так любила – о ее родном Беломорье. «За этим словарем – вся моя жизнь», – писала она в предисловии. Как пример, приведу только три толкования из «Словаря» – о море, о старых временах, и о чувствах человеческих. И комментарии будут излишни.
ВЗЫГРАЛО МОРЕ – разыгрался ветер, и пошла волна, началось волнение.
Взыграло наше море Белое. Получасу не прошло – гребни взбеливать зачали, а там и взводень встал, зашумел, запылил. Сиди на печи, помор. Любит наше Белое себя показать. Кажись, спокойной ковшечек, а ветер зачнет силу показывать – ну где же ему отстать. Ну и взыграет. Волнышки невелики, а обещают взыграть и поболе – ветер-то восток. Взыграет море, но не завсе идет к шторму, а, может, и стишает к вечеру – ветер-то летний, обедник. На берег зашло море, взыграло на всточниках, поднялось – вот-вот запылит.
ДОСЮЛЬНИЙ, ДОСЮЛЬНОЙ – прежний, давний, до нашего времени.
В досюльны времена рыбы-то ловилось куды больше: сельдь грудно шла, семушка в каждом замете. Народу боле стало, рыбу-то и приели. Кормись ноне сайдой да мойвой. Девку замуж отдаем, дак и придано идет все мои парчевы сарафаны и коротеньки. Они все досюльни, мне от матушки это придано. В досюльни времена труд тяжельше был, ноне легко жизнь пошла, то и обленился народ. Досюльни времена по памяти родительской знаем. Когда мы пришли на Терский бережок – не знаю я, не на моей памяти, досюльны мы, испокон здесь, на Варзуге, живем. Досюльны-то жители крепко живут, а пришлы – те еще помаются. Да обживутся. Жизнь здесь хорошая. Досюльны привычны и к морю, и к ветру, и к морозу.
ЛЮБОВЬ
И што оно такое – любовь? Пришла, шестнадцать мне было. Взяла за сердце. Всё я забыла, одна радость – свидеться с им. Он взял в жены другую, я – побоку. Скорехонько выдали меня в другую деревню, на другой морской бережок. Мужик у меня хороший был, работящий, неругливый. По своей любви когда и слезу пролью. Не забывается. Мне сорок шесть теперь, а всё помню. Все ласковы словечки. Любила мужа до беспамяти. Война его взяла. Слова и руки его – всё вспоминаю, забыть не могу. Как без него выжила? Видать, для ребят. Двое их. Бывало, сколько я выходил за ней, как она девкой была. Все у ей с форсом было (оба смеются). «Не пойду за тебя». Верность моя победу взяла. Заслал сватов – дала согласие. Ждала, небось, сватов. Любовь у нас была верная, в радость. В жизни нашей она форс свой оставила. Теперь, на старости, в уваженьи живем. Деток пятерых выростили. И от их уваженье нам. Серебряную справили двадцать тому, к золотой подходим. Трудились согласно: я – добытчик, она – по хозяйству. Обои труда не мало положили по дому – там достаток. Когда и шумели, она и зачинала (смеются).
В последние годы Ксении Гемп в ее квартире раз в неделю устраивались вечера, где собирались люди, интересующиеся историей и культурой края. Придти туда мог любой. Бывал на этих вечерах и Николай Николаевич Уткин, архитектор из Петербурга, как и я, закончивший ЛИСИ, любимый ученик нашего любимого преподавателя истории русской архитектуры Юрия Сергеевича Ушакова. Закончив институт, молодой Уткин оставил родной город и переехал в Архангельск ради прекрасных северных церквей, изучению и реставрации которых посвятил всю свою жизнь. Именно от него, будучи студенткой, я услышала в первый раз слово «Унежма», и, может быть, когда-нибудь еще напишу об этом. К Ксении Петровне его привел кто-то из знакомых. Она была уже стара и говорила с трудом, но каждый вечер, превозмогая усталость, вдохновенно рассказывала – о ее любимом русском Севере, о его древней истории, его богатой культуре, его мужественных и сильных людях, воспитанных морем.
***
Ксения Петровна Гемп бывала в Унежме как минимум пять раз: в 1948 г. (приблизительно), в 1953-м, 1958-м и 1961-м. Бывала она там, очевидно, в командировках – там, как и в других местах, в колхозные годы добывали водоросли. В 1958 году, в четвертое посещение нашей деревни, она записала «Сказ о взятии Рязани», приведенный в книге «Сказ о Беломорье». Имя сказительницы – Парасковия Парамоновна Ампилова.
Фамилия Ампилова – не унежомская. Здесь таится весьма любопытная загадка, и я пока не могу ее разгадать. Дело в том, что нигде – ни в одном списке избирателей унежемского сельсовета и колхозников колхоза «Великое дело», которых в старых архивных делах мне попадалось множество, не встретилась фамилия Ампилова, мало того, не встретилось даже имя Парасковия Парамоновна. Я расспрашивала о ней старых унежомов, живущих в Архангельске и Мурманске, помнящих события, годы, имена, но никто, ни один человек не мог вспомнить эту женщину. Население Унежмы в колхозные, а тем более послеколхозные годы, было не так уж велико, и с уверенностью можно сказать, что каждый там знал каждого. В чем же дело?
Анна Ивановна Кондакова, бывшая унежомка, проживающая в Архангельске, на мой вопрос высказала предположение, что фамилия Ампилова созвучна с Акилова, а Акиловы – она из распространенных унежемских фамилий, и, может быть, здесь просто имеет место ошибка. Это вполне вероятно – Ксения Гемп, по ее собственному признанию, расшифровывала запись (вероятно стенографическую), спустя 20 лет, и было ей уже за 80. Но Парасковии Парамоновны Акиловой тоже никто не помнит. В списках колхозников ее могло не быть, потому что к моменту образования колхоза (1930 г.) ей было уже за 50. Но списки избирателей? Может быть, была «лишенкой», из кулаков? Но к концу 30-х годов все «лишенцы» были либо высланы из деревни, либо восстановлены в избирательных правах. Что же тогда? Давно уже жила в городах и приезжала в деревню только на лето? Вообще никогда не жила в Унежме, и Ксения Гемп ошиблась не в фамилии, а в месте?
Как ни обидно это признавать, но похоже, не было такой женщины в Унежме, и запись «Сказа» сделана в какой-то другой деревне. Многие нюансы говорят об этом: и упоминание чужих, не унежомских, фамилий, и то, что сестра сказительницы вышла замуж в Нёноксу (с которой у Унежмы не было тесной связи), и то, что бабка ушла в Амбурский старообрядческий скит, хотя были скиты и поближе к Унежме … Мне кажется, место, где было записано сказание, тяготеет больше к Онежскому полуострову, к Летнему или Онежскому берегам, т.е. к нынешнему Приморскому району, а может, и подалее – к Мезенскому.
Но предположим все-таки, что Ксения Гемп не ошиблась, и что сказ о сокрушении Рязани действительно записан в Унежме. Что мы знаем тогда о безвестной унежемской сказительнице? Парасковья Парамоновна Ампилова (возможно, Акилова), рождением до 1878 г., а вероятно ранее. Потомственная унежомка, т.к. еще бабка ее жила в Унежме. Бабка была старообрядкой и на старости лет ушла в Амбурский старообрядческий скит. У нее была книга древнего письма, которое внуки, став грамотными, разобрать не могли. Из этой книги бабушка читала им «Сказ о сокрушении Рязани» и другие истории – про Мамая, про Ивана Грозного, про Соловки.
Сама Парасковия Парамоновна славилась как хорошая певунья – песни она «в нитку вела», знала их множество, ее приглашали петь в другие деревни. Было у нее трое сыновей, все погибли в Первую мировую войну. Кто-то из детей, однако, остался в живых – у нее было несколько внуков, четверо из которых погибли во Вторую мировую войну. Осталась внучка и ее потомство, с ними-то старая женщина и жила в Унежме свои последние годы. По ее словам она – последняя из рода Ампиловых, т.к. мужчин, продолжателей фамилии, в их роду не осталось .
В заключении этого длинного предисловия хочу заметить, что, даже если «Сказ» записан не в Унежме, а в какой-то другой деревне, то, спустя годы, он прочно ассоциировался у Ксении Гемп именно с Унежмой (имя Парасковии Парамоновны неоднократно упоминается в связи с ней), поэтому его все равно можно считать унежемским.
А что же скажем мы про описание самой деревни, предваряющее «Сказ»? Унежма ли это, или ее таинственная сестра-близнец? Можно было бы однозначно сказать: да, это Унежма, если бы не несколько настораживающих моментов, которые я отмечу в примечаниях. Мне кажется, был у Унежмы двойник, слившийся с ней воедино в памяти Ксении Петровны… Эта загадочная деревня-близнец должна быть очень похожа – и по созвучию названий, и по облику, и по духу. Должна она быть на море, прямо на берегу, и иметь деревянную церковь (побольше унежемской), и быть почти заброшенной. Распространенными фамилиями там должны быть Ампиловы, Деревлевы, Антипины, Мякишевы, Агафеловы… Быть может, кто-то поможет разгадать эту загадку? И если такой двойник найдется, то именно там был записан «Сказ о сокрушении Разани», именно там жила сказительница Парасковия Парамоновна Ампилова, и именно там читала Ксения Гемп свой «Плач о невозвернувшихся с поля ратного».
Фрагменты из книги «Сказ о Беломорье»
И мена М.С. Крюковой, М.Д. Кривополеновой, их произведения давно и широко известны в стране. Но были в поморском крае удивительные сказительницы, чьи имена и творения до сих пор остаются безвестными. Об одной из них расскажу.
В августе 1958 года я четвертый раз побывала в Унежме. Это старинное село расположено на юго-западном берегу Онежского залива Белого моря, в низине дельты мелководной и каменистой реки Унежмы. Оно упоминается в документе XV века – переписи владений новгородской посадницы Марфы Борецкой, владелицы-захватчицы многих земель и промыслов Беломорья . Село уже в XIX веке было большое и богатое, к XX веку в нем насчитывалось 80 дворов и 555 человек взрослого населения. Жители занимались сельским хозяйством, сравнительно с другими близлежащими селениями здесь было значительное поголовье рогатого скота, сенокосы были большие и богатые . Кроме того, унежане , как и все поморы, промышляли в Белом и Баренцовом морях рыбу и морского зверя. Были у них своестроенные суда – поморские карбаса, пригодные для далеких плаваний, промысловое оборудование и знание своих северных морей, северных ветров. Ходили они промышлять и на Новую Землю, привозили гольца, оленью шерсть, кое-какую пушнину и гагачий пух. Оленью шерсть в прошлом широко применяли для набивки постелей и даже подушек. Из гагачьего пуха вязали на спицах узорные шали и платки. Они были мечтой каждой поморки. По наследству их передавали. До Архангельска и Питера доходила слава пуховых гагачьих шалей, вязаных унежанками. На Всемирной выставке в Париже в начале нашего века побывали они. Не уступили оренбургским. Торговое было село. Избытки промыслов везли в Онегу и Архангельск на ярмарки.
В тридцатые годы село начало помалу пустеть, в пятидесятые уже несколько домов было заколочено. При четвертом моем посещении большая часть домов стояла «без глазу и призору». Окна и двери их были забраны досками, взвозы на поветь полуразрушены. Первое впечатление: пустое, замолкшее село. Но нет, не все покинули пепелище. На крыльце трехоконного дома сидели две женщины. Я подошла к ним, поздоровались, разговорились.
– Пустовато стало у вас. Выехали в другие места или на промысле?
– Мало́й ноне у нас промысел. Пять старых мужиков на своем жительстве осталось, тут недалече рыбку кое-какую ловят. Молодежь ушла вовсе, на производства.
– Как и чем вы тут живете?
– Помаленьку живем, огородцы маленькие есть, картофель, репу, редьку, капусту ро́стим. Всё работа и какой-то доход. Невелик, конечно, а все же своя копейка. За хлебом карбасом либо зимой пешем в Нюхчу ходим, сухари, сушку, сахар берем. «Пензии» есть кой-какие, ягоды, грибы в Нюхче сдаем. Одна корова в селе есть.
– Радио у вас есть, газеты, письма получаете?
– Радиво нет, газетка Петровичу ходит, почитать всё дает и сам объясняет суть делов, письма тоже ходят от детей, иной и деньжат посылает. А так, больше смерти ждем. Все больше старые тут. Гадаем, кто кого хоронить будет. Ругаемся промеж собой, так, не из-за чего. Дела стоющего нет, ребят нет, вот и ругаемся .
За деревней, на открытой поляне перед Большой Варакой (холмом), по-прежнему стоял одинокий деревянный одноглавый храм, еще более ободранный, чем десять лет назад, но все еще рослый, могучий. Его увидишь на море еще с дальних подходов к устью Унежмы. В одиночку борется он с ветрами, непогодами, но все еще стоит прочно, как укор нерадивому человеку, не отдающему должного уважения труду, таланту, творчеству самобытных зодчих, плотников, резчиков и живописцев, поставивших его в 1826 году. Строили-возводили все сельским обществом, звоны какие были навешаны знаменитые .
Храм, благодаря своей высоте и положению на открытом, возвышенном месте, служил неофициальным маяком. В периоды ненастья, ветров, штормов, на вышке у купола сельчане жгли сигнальный огонь, подавали весть рыбакам, застигнутым погодой на промысле. Этот огонь на храме-маяке помог спастись многим рыбакам и морякам, выбраться из слепящей вьюжной заверти, под визг и свист полуношника, под рев грозных взводней на родной бережок. Все же кто-то неизвестный при малых возможностях, но по велению совести былого «кумпанства» и по доброте душевной прикрыл кое-какие дыры на крыше, подколотил провисающие доски и навесил замок у входа. Всё какая-то охрана.
Когда-то здесь, в старинной трапезной храма, проходили собрания сельчан, они судили-рядили, решали все дела сельские, творили суд над нарушителями порядков и спокойствия села. На лужайке девицы в праздники водили хороводы, заводили песни, похваляясь ста́тью и нарядами, женихам себя казали. Парни выхвалялись силой, удалью, городки ставили, в звоны играли, на девиц поглядывали, невест себе приглядывали.
И перед, и за Варакой следы труда человека: когда-то возделанная земля для полей, луга для сенокосов. Утратила Унежма былое экономическое и историческое значение. Оставил человек когда-то с громадным трудом обжитые места. Ушел на современные рыболовные оснащенные техникой суда, на промышленные предприятия, на стройки – туда, где гул машин, где ритмично стучит сердце мотора, где радио, телевизор, библиотеки, самодеятельность, где широкая дорога вперед. Ушел в большой людный мир.
В конце села между уснувших жилищ стояла большая пятистенная рубленая изба. Охлупень с четко вырезанным коньком, крыльцо под навесом на резных столбиках, взвоз целехонек, ворота во двор прикрыты, на окнах белеют занавески. Хозяева живут здесь. Вспоминаю – в прошлые приходы живала я в этом старинном доме по нескольку дней. Здесь-то я уж всего наслушаюсь, как и прежде. Надеюсь, встречусь со старыми знакомыми. Стучу, вхожу, здороваюсь. Встречают приветливо, по-беломорски. Изба большая, чистая, красивая мощная печь. У печи хлопочет молодая женщина, ей помогает девчушка лет двенадцати. У окна на лавке сидит старая женщина с вязанием в руках. Она смотрит на меня поверх очков. «Заходи, гостьей будешь, давно никто не захаживал. Откуль тебя опять занесло, знакому стародавню? Я тебя, Ксеньюшка, сразу признала». Здоровались и ликовались мы по-хорошему, как полагается в Беломорье после долгой разлуки. Хозяйка, Парасковия Парамоновна Ампилова, познакомила меня с внучкой и двумя правнучками. Хозяин – муж внучки – был на промысле.
Десять дней прожила я в этом гостеприимном доме, сохранившем во многом старый поморский уклад. Изо дня в день шел наш разговор о том, чем живем, о близком и далеком, все еще памятном и Парасковии, и мне, но уже иной раз и странном ее внучке, и особенно правнучкам.
Началось все с песен. Правнучка начала напевать-мурлыкать какую-то современную песенку. Парасковия прервала её: «Загунь, не тешат твои песни. Нонешни песни для молодых. Толкут и толкут одни и те же слова. Завтра другу схватили, тоже толкунок, другое слово вертят-перевертывают. Сегодняшнюю уж и отставили. Ни на сердце, ни в памяти не осталась».
Парасковия вспоминала, как она девицей хаживала не только на свои унежемские хороводы, но ее приглашали и в другие деревни. Хорошо запевала она песни девичьи, в нитку вела и знала их множество. Тут вмешалась внучка: «Осьмой десяток перешла , а нет-нет да и запевать зачинает. Вот такова наша бабка».
Затем продолжался рассказ Парасковии Парамоновны: «Живем – не жалуемся, потому как работаем. Всё своими силами да старанием нажито. Живем сердешно, в семье ни разделу, ни шуму не бывает.
Только горе-печаль у меня про сынов и внуков. Трех сынов в перву мировую и четырех внуков в последней я утеряла. Мужиков нашего корня в семействе нет, я последняя рода Ампилова. Именной род кончился. Не одни только моего, ампиловского, корня с войны не пришли, и других корней тысячи. Какие города-села, какие народы защищали – не знаем, нам известия не давали.
Газетки читаем, школьны книжки есть. Всё не то, ни на сказывание, ни на песню не находит это. Не находит, нет. Говорят, стихи это нонешни. А по мне, так наговорено всяких слов – и всё. Или на деревню шлют плохое писание, думают, хорошего не поймут. Поймем, да еще укажем, что не так.
Нам надо навечно, и для всего нашего места, и чтоб Мезень, и Варузга, и Кандалакша признали и сказывали, как про своих. Знаю такие сказывания про город Рязань и рязанцев жителей. Не видать, не бывать нам в Рязани – где она, на Оке-Волге далеко лежит, а сказывание о ней до Белого моря дошло и на голос и на сердце легло. Сказывают про нее и в других деревнях. Старое хорошее слово мы, поморы, храним.
Прошлым летом московки на судне приходили. Писать про старое хотели. Рублевку, а то и трешку подают. Не беру. Святое это дело – помнить про старое и сказывать, что помнишь. Благодарение за сказ мой слушаю, да и сама за послух благодарением отвечаю. Ты знаешь этот наш обычай, ты нам, как своя. Московки про Рязань не писали, говорили: «Это не поморское. Нам надо северное, поморское» .
Про Рязань я никому прохожему не сказывала. Нельзя под смешки да разговоры о таком деле сказывать. Своим сказывала, слеза у многих была. Редко сказывала, только чтоб не запамятовать вовсе. Помру, ты сказывай, первая будешь писать мое сказывание».
(Сказывание она прерывала своими замечаниями, привожу их в скобках).
И началось необычайное, на всю остальную жизнь памятное:
«Бабушка наша кончилась тому семьдесят лет , в землю легла. Чтица была великая. Как жила с нами в Унежме – читала разное нам, внукам своим. Старая книга была у нее. Мы потом в школу ходили, а читать книгу ейную не умели. Надпись не та. Баушка в Амбурский скит ушла доживать. Унесла книгу с собой. Отказала потом ее своей младшей дочери, котора жила в Нёноксе. Затерялась та книга, а может, кто унес, втихую прихватил. Ноне и так бывает. Интерес большой к книгам.
Слушала баушку, запомнила много, боле всего про Рязань. Страшное дело было на Рязани, то и запомнилось, не единожды слыхала, а всё дрожь брала. Такое дело было, событие на века. Не один век миновал, а народ наш, простой, поморский, всё помнит. Не я одна баушку слушала по книге. Слеза не выжималась, а всю душу дрожь брала. Что помню – скажу, мало теперь чего помню. Позабывать стала. Некому сказывать, да и восьмой десяток сама переломила. Слушай, пиши по-быстрому. Не спрашивай ничего. Сама скажу, что помню».
Парасковия сняла передник, оправила рукава и головной
платок. Перекрестилась и села на скамью в передний угол. Лицо ее
побледнело, глаза были прикрыты, руки теребили маленький платочек. Она
волновалась. Ее волнение передалось и мне, и ее внучке.
Вдруг она как-то
встрепенулась, выпрямилась, распахнула глаза, руки положила на стол.
Начала сказывать.
СКАЗ О СОКРУШЕНИИ РЯЗАНИ
«Н е вставало еще Солнце красное над степью дальней. Толь на востоке загорелося красно пламя ниточкой. А всколыхнулися травы высокие, кабыть ветерок по им прошел. То в степи дико́й ко́ней поить на Дон-реку погнали. Погнал враг грязно́й, нечисто́й, кибиточной. Ратью конской на Рязань собирался, грабить, губить целил.
(Изб по-человечески у его не было. В кибитках жил. Дикой был враг, без понятия и жалости.)
Но не спала Рязань, тревожилась, знала-чуяла: ей перво́й врага встречать. На стольный град Москву дорогу стерегчи-берегчи ей же опять. Главная она, Рязань, надёжа и крепостна защита. Приготовила Рязань стены бревенчаты крепкие, двойные, скобами схвачены, ёжи поверху. Башни бойные высокие, завалы да засеки непроходные округ Рязанских стен и башен. Остерегли и Оку-реку, как бы враг наплывом не подобрался. Все запасы воинские всякие из складо́в-амбаро́в к стенам, башням вынесли. Крепко биться-рубиться готовились.
Не спал и Смоленск-город, крепость великая, верная. Не спал и Меценск, невелик, а смело́й городок. Не спал и Владимир белокаменный, распрекрасный, со дворцами и церквами расписными, разукрашенными.
(Прозванье города – Меценск, вроде нашей поморской Мезени. Это хороший город должон быть.
Не повидала я города Владимира, а не единожды слыхала о его благолепии. Весть о хорошем далеко идет, крепко держится. Вот так.)
Все города-братья подмогу готовили. Мечи булатные ковали, луки тугожильные гнули, стрелы летучие пером оперяли. Едовы́е запасы в мешки да в сумы заправляли.
(У нас завсегда так. С Беломорья и с Мурмана и на француза, и на германа северные-то наши полки вместях хаживали. До самого главного города француза доходили. Медали были за то и у Деревлевых, и у Антипиных, и у Мякишевых . Немца тоже били в ихней столице. Стеной станет помор. Никому в подмоге не откажет. Так приучен на морском деле. Отказал бы кому в правой помочи – и домой не ходи. Родители осудят: не позорь роду поморского. Отец сына, хоть и женатого, за провинность такую может и огреть ремнем. Вот так. Не дело заветов отцовых забывать. Забыть их – своих не накопить. Мы так смотрим.)
В Рязани-городе князем стоял степенный воин. Гюрга́ прозвание егово, жена его Проксе́на, божоночка-краса. Очи синие распрекрасные, косы длинные.
(Прозвания не наши поморские. По старине, видно, прозваны. В святцах не записаны.)
Они пятерых сынов породили, взростили. Дочерью судьба обошла. Горевала мать. Матери дочь нужна беспременно. Сыну старшо́му двадцать два годка, а моло́дшему двенадцатый. Два старши́х сына уже жен поимали и внука от старшего князь Гюрга восприял. Старшего Фео́дора-сына отец отослал в татарскую о́рду подарки дарить, от находа на город Рязань откупаться. Не возвернулся сын пе́рвой, наследник отцов. Злобой татарской Феодор и еговы соратники все мукам преданы были и загублёны. Не возвернулся никто из стана ордова.
(Много народу загубил разный враг и на моей памяти. По нашим деревням поморским сколь не возвернулись с разных войн. Слез сколько пролито, сирот-то оставлено, хозяйств сколько порушено. Прошло како-то времечко – смотришь, и оправились. Нет, стоять нам века. Народ наш крепко́й. Вот так.)
И пришел час грозный, в жизни единожды встретится он. Князь Гюрга взошел на стены рязанские. Оглядеть и поверить, всё ль на местах, как воины рязанские к отпору врагу изготовились. И сказал князь Гюрга им твердое слово свое: «Стоять будем, как отцы-деды стаивали, и нам, потомству своему, стоять завещали. Тяжко будет, а ни один не забудет – Рязань мы». То слово «Рязань мы» рязанские воины все повторили.
Поставил Гюрга воинов всех по местам. Правую башню хранить приказал сыну второму. Заместо старшого Феодора сына его он поставил. Сторожить-берегчи леву сторону третьему о́тдал. Место свое взял князь у надворотной башни высокой. Башня та стерегла-берегла крепостные ворота́.
(Надворотная – самая высокая, главная башня. Вход – ворота стерегла. Видать все князю с высокого места, в середке всех. Укажет кажному его дело.)
Все рязанцы во шлема́х, в кольчуга́х. Мечем опоясаны, колчана́ми обвешаны. По леву руку лук тугожильный, а стрелы каленые, пером оперенные – у правой руки. Все изготовились встретить врага в тяжком бою.
Во двор княгиня Проксена всех жен, дочерей, матерей посклика́ла. Слетелись, как птицы вместях собрались. Костры порасклали, котлы принесли, смолу кипятили, камни калили, паклю крутили, смолили и жгли. Дымом и гарью ворого́в хотели душить. Кипящу воду, смолу, камни калены к стенам несли. Со стен на врага их молодши сыны опосля поливали, бросали.
Врага еще не видать, а идет грохоток, топот ко́ней несчислимых, дики́х. Вонь-заразу страшенную ветер несет. Враг дикой рушить, грабить идет на Рязань. Жалость не даст он ни граду преславному, ни воину хороброму, ни жительству старому-малому. Всех либо забьют, либо в плен уведут. Рязаночкам, девицам молоденьким, всех доля тяжельше, горшее. Опоганят, надругаются, охому́тят и опосля изведут. Биться рязанцам без сроку, на себя все тяготы брать, воинску доблесть беречь, славу Рязани.
Налетели, орут и крычат, свист подают. Скачут по-дикому, ко́ней вертя́т, на дыбки подымают, на вызгото́к позывают, толкают копытами бить. Лезут на стены без удержу, страху. Лезут на башни, как черные жу́ки, что в навозе живут. Крючьями стены и башни по бревнам цапляют.
Пала на Рязань черная туча великой вражеской силы. Из луков тяжелых стрелы каленые на стены, на башни рязанские она дожжом поливает. В одиночку бьется Рязань. Стрелой, каменьем, смолой и водой держит защиту.
Времечко не стоит, а бежит. Одна бьется Рязань, силы теряет. Подмоги все нету, ждут ее, не дождутся. Не дошла вовремя подмога, не поспела. Снеги сугровные, дороги не езжены, кони выбились вовсе. Пешем тяжко воины шли, ко́ней вели под уздцы. Воинскую походную справу на себе волокли. Все на подмогу спешили, силы своей не жалели. Видно, силы на месте собрали не все. Билась Рязань в одиночку.
Вдруг вскрычала княгиня, вся всколыхнулась. Несут со стены ее сына второго. Как пал тот сынок, права рука, на стену поднялся без зову четвертый, молодой, удалой, весь в отца. А было ему толь пятнадцатый год. И братнино место он занял, на отца лишь гляну́л. Дрогнуло сердце отцово – и этот мале́ц Рязани защитник.
Долго билась-рубилась Рязань в одиночку. Князь Гюрга оборону крепко держал. Круто и храбро бились рязанцы. Один за другим оборону сдавали толь смертному часу. Несут и несут со стены защитников, смерть восприявших. И средь их третий княгинин сынок. Он по левую руку бился на стенах, крепко, долго стоял. Матери многие тут потеряли деток своих, сынов молодых ненаглядных, опору свою.
По стенам точь ветер колыхнул и застонал. То князь Гюрга, стрелою пробитый, упал. Последний молодший остался княжий сынок. Светел волосом, ясен синим поглядом, нравом приветлив и весел. В матерь свою уродился, красу.
«Где ты, мой сын?» – встрепенулась княгиня.
«По давней стари́не на стене у отца, – ответил старый рязанец-слепец. – Последнее смертное благословенье и меч его он примает. С ним его други в забавах, в играньях, они свово не оставили княжича».
Тяжел воинский меч, и взял его сын руками двумя. На стене городской у башни высокой он бился с друзьями отважно. Недолго стоял он, прилетела стрела и смертно ужалила меж сини глаза. Пятого сына мать отдала на защиту Рязани.
Последни защитники держат стену́. Никто не ушел, не спасался рекой. Никто не покинул Рязани.
На поруганье врагу не оставят воинов, павших в бою. К дальней стене у реки собралися матери, жены и дети погребенье копать, всех в землю класть и платом покрыть. Обычай такой стародавной.
(Завет старый – покровом крыть. Последнюю охрану человеку воздать, защиту и память. Завсегда покров хороший готовят, иные из последнего, а покроют хорошо. Прощальный это покров.)
Все в землю рядками легли, одной земли люди. На приступок княгиня взошла, до земли поклонилась всем павшим в бою, всем, землю родную хранившим. Плач свой по всем убиенным рязанцам она прокрычала: «Князь мой, сыны мои ненаглядные, рязанцы хоробрые – дети мои, смерть воинская райскую дверь вам всем отворила». Лицом распрекрасным на погребальную землю княгиня легла. Руками могильный холм обнимала, сердцем к ему припадала. Прощалась с Рязанью и жизнью своей.
«В плен не ходить мне, без Рязани, без вас мне не жить». И бросилась сердцем княгиня на меч вострый. Этот меч первым ейный муж, главный в семье, и последним сыночек меньшой на защиту Рязани вздымали.
(Невестка тоже порешила себя. Смерть от руки своей на таком деле Бог простит. Я ране свечу ставила за их всех в день поминовения всех святых. Как помянуть ноне – разве только сказыванием. Поминать их баушка наказывала. Не забываем.)
Не отбилась, не отстоялась Рязань, но врагу не сдалася на милость. Полегли все защитники на стенах, на башнях. Стены и башни, всё жилое свое рязанцы сами до смерти своей сожигали.
Остались врагу только пепёл да тлен.
Нам о Рязани память осталась на веки.
И встала по памяти этой народной нова Рязань, как Сирин из пёпла. И жизнь, и слава ей на веки.
От нас воздаем всем рязанцам, стоявшим в бою, благодаренье, почет и поклон наш земной».
Закончилось сказывание. Парасковия Парамоновна встала, и мы, две старые женщины, отдали друг другу земной поклон. Я благодарила за сказывание, она за слушание.
Слушание и запись сказывания «О Рязани» продолжались пять дней. Сказывание Парасковия Парамоновна начинала под вечер. На следующий день утром я зачитывала ей записанное. Она часто прерывала чтение и просила повторить только что прочитанную фразу или отдельное слово. Раздумывала. Иногда она вносила поправки в последовательность слов и ударения или говорила: «Так». Чтение продолжалось. Когда все поправки были закончены, я вновь читала записанное, перерывов уже не было. Под вечер записывался новый отрывок сказывания, на следующий день утром вечерняя запись проверялась. Так сказывала и проверяла Парасковия Парамоновна пять дней сохранившееся в ее памяти удивительное повествование о далекой не виданной ею Рязани, пережившей в XIII веке страшное татарское нашествие.
На шестой день вечером в избе собралось девять человек. Я зачитала записанное. Слушали молча и взволнованно, а затем все с поклоном благодарили Парасковию Парамоновну. Она, уставшая, платочком вытирала редкие слезы.
«Конешно, давно и не близко, а сердце лежит, свое
родное».
Это было сказано в
Беломорье, в старой замирающей Унежме, о Рязани, перенесшей смертные
страдания и проявившей несокрушимое мужество шестьсот лет назад где-то
на далекой Оке-Волге. Сказала их одна из слушательниц, старая поморка.
На следующий день после окончания сказывания Парасковия Парамоновна сказала мне: «Ну-ко, возьми свои скоры карандаши. Есть еще у меня на памяти сказывания небольшие про Мамая, про Грозного царя, про Соловки наши. Запиши. Расскажешь другим. Все память о стародавнем.
Врагу не взять русскую землю. Сама знаешь, всё отдаем за нее, всё, нам, жонкам, самое дорогое. Ты рассказывай, а то некоторые нонешие и не знают, как испокон бережем родное-заветное. Сказывания старые храним в памяти. Посчитай-ко, сколь веков помнит простой-то народ, особо поморы, что свершилось-то. Родину помним, горя́ все ейные. Много их. Горевал и народ, а не жалился. Всё надея – пройдет.
Ты не обессудь. Нитку для складного голоса утеряла я. Сказывала, как могла. В книге-то больше складу. В память так и идет из книги, а потом и на голос. Стара я стала, говорила тебе, восьмой десяток переломила. Книгу баушка читала, а мне было восемь-девять годков. Вот так».
Записала я всё, но проверить текст со сказительницей не удалось, пришлось нам расставаться – мне надо было спешить в Онегу к рейсовому пароходу. Расшифровывала, припоминала полувыцветший текст я уже в Архангельске через двадцать лет.
Ниже – текст вступления Прасковии Парамоновны и ее сказывание. В запись сказывания, в скобках, включены ее примечания.
СКАЗЫВАНИЕ О ЦАРЕ ИВАНЕ ГРОЗНОМ
«Сама сказала тебе про Грозного царя. Вспоминать стала – мало упомнила. Это не про Рязань. Про Рязань-то баушка еще и от себя сказывала, книгу полнила. Про Грозного она незавсе читала. Почитает, да и крест положит: «Не к ночи будь сказано, слушано, потому как царь этот – сыноубийца. Грех незамолимый на ём, хоть и царь он был». Баушка на слово смела была. Все в ответе за грехи.
Б ыл грозен царь Иван Васильевич. Сердце жестокое, глухое от юных лет было у него. Лежало камнем сердце царево. Оно не понимало ни горестей, ни радости народа, над которым был он вознесен. В нем кровь играла, веселился он, как видел слезы горькие народные. Разумом-то он был силен и далеко глядел. Крепка была государева рука. (Так сказывали о нем, так и должно быть у царя.) Но сердце сумеречное и окаменелое сбивает разум с верного пути. Ведет оно на путь неверный, не на правду и добро, а округ да около вертит – задумал доброе, а сбился. Веселия сердечного, памятного на всю жизнь – и нет. Не было его у Грозного царя. Сам не рад, промашка ярестит его, пуще в гнев приводит. Вот он и кидался – то поклоны клал в церквах, то казнил, то миловал. Криком насылает он угрозу – устрашение округ его. То и прозван он – царь Грозный.
Все страшилися его. Жен имел он многих, но были все они с ним не в любви. Жены-то пригожие, молоденьки боялися его, и мало народилось деток у царевой семьи. Еговая вина, не тянулись сердца женины к нему, в страхе, в нежелании с ним были. (Каки уж тут зачнутся детки. Рази каки ущербны, с изъяном.)
Не век жить человеку, не век царствовать царю. Не хотел делиться царством Грозный царь, а пришлось ему приучать ко царству сына своего старшо́го. Рослый был он, молодец могутной, да слаб был сердцем, душою слаб сын-от то, царевич, первенец наследный. Страшился он, как все, Грозного Ивана. В трепете стоял он перед царем-отцом, как по спросу о Новгороде ответ ему держал. Не угоден был ответ Грозному царю. Разъярился царь, обеспамятел, поднял свой тяжелый костыль, размахнулся и ударил сына, да попал в височную кость, жизнь хранящую. И упал царевич-сын, как подкошенный, на ковры, ко престолу, ко подножью царскому. Насмерть сын убиен отцом. Убиен царем наследник царства.
Как увидел царь невинну кровь сыновью, родным отцом пролитую, не отцово сердце, а разум царский, устрашенный, тут возговорил. «Не я, не я, то костыль из рук сорвался», – кричит, стонет царь. Не сына наследного, видать, он пожалел, а устрашился Божьей кары за себя. Но всё же обымает, поднимает он царевича. Руки царевы сыновья кровь, кровь отцова, дедова, тут и обожгла. Показала кровь – он, отец, погубитель сына, государева наследника. В злобе, в гневе царском он святую заповедь порушил.
Правда-истина по земле идет и в сердце людей стучит: «Не страшится совести своей Грозный государь-отец. Не покается – держать ему ответ на последнем Суде страшном».
Припоздал он в покаянии своем. Не смывалась кровь невинная сыновья с рук отца-царя. До кончины дней очам Ивана Грозного царя блазнит. Он во снах кричал: «Не я, не я!»
К небесам закрылась дороженька царю.
(Покоя с той поры царь Грозный, видать, до смерти своей не знал. Не должон был и знать. Совести не ответил он, потому как с царя и спросу не было).
Примечания Парасковии Парамоновны – это короткие сказывания, свидетельствующие и о прочной памяти народа, и о высокой нравственности его оценок.
Уважительно и бережно должны мы относиться к народной памяти, к наследию творцов безвестных, века хранившемуся в ней. Оно всегда находит отклик в родной душе, отчее наследие, а зачастую помогает человеку на трудных путях жизни. Напоминает нам это наследие и о величии нашей Родины, и о нашем долге перед нею. Напоминает о несокрушимой верности народной родной Земле, своему краю, о готовности стоять за них.
СЛОВО О НЕВОЗВЕРНУВШИХСЯ С ПОЛЯ РАТНОГО
Когда в 1958 году была я в Унежме у Парасковии Парамоновны Ампиловой, записывала от нее «Сказ о сокрушении Рязани», пожалилась она мне в одном из разговоров: «Не знаем, какие сказания, сказывания, песни складены по воинам, всем нашим поморам невозвернувшимся. Видать, ничего не написано, али писал кто, а никому на память не легло – так писал, не для нас. До нас не доведено. Обида это, все молодые они, молодость свою отдали, а говорят нам: «Погиб», – да не погиб, а на защиту Родины жизнь свою положил. Ничего не сказывают душевного. Всё веселые песни поют, больше про тех, кто на виду живой остался, – живым не в укор это я сказала. Защитники-то безотказные в землю неизвестную полегли, сами они молчат. Об их молчать – не по совести это.
Слово надо простое, правое, душевное. Оно везде пройдет и найдет сердце ожидающее. Тоску-память утешит».
При расставании она, потерявшая в первую мировую войну трех сыновей, а в Великую Отечественную четырех внуков своих, дала мне наказ написать Слово о наших воинах невозвернувшихся.
В 1961 году я вновь побывала в Унежме. Привезла на суд Парасковии Парамоновне Слово о невозвернувшихся с поля ратного – плач моря Белого.
На следующий день в ампиловскую избу собрались все старые женщины Унежмы, а их было десять. Они пришли слушать Слово, молчаливые, в лучших своих сарафанах, белых рукавах и платочках. Так же обрядилась и Парасковия Парамоновна. Она прошла в передний угол. Поприветствовала пришедших поклоном, перекрестилась и громко сказала: «Присядьте, слушать будем Слово. О наших поморах. Взяты они на войне морем и землей. Примем Слово али нет – нам скажет сердце».
Женщины слушали, молчали. Безмолвна и горюча была их слеза скупая. Когда чтение кончилось, хозяйка встала и без слов взглянула не женщин. Они помолчали, а потом разом сказали: «Да». И Парасковия подтвердила: «Вот так».
Это был для меня самый строгий суд. Суд над Словом, а не за сплетение слов.
27 солдат не вернулись с ратных полей двух войн в семьи этих вдов и осиротевших матерей. Они знали и помнили горечь утрат. Утрат близкого-родного, своей поддержки, будущих радостей.
Двадцать лет пролежало Слово в моей записной книжке, с трудом я восстановила то, что сама написала…

Памятная доска в Унежме, поставленная А.А. Евтюковым
в кон. 1980 - нач. 1990-х гг. Фото М. Огневой. Список погибших здесь далеко не полный.
.
Им, и сотням других, ушедших на фронт из поморских деревень,
посвящается «Слово о невозвернувшихся с поля ратного»
Ксении Петровны Гемп.
.
***
Б ой идет, бой на земле, на море, в поднебесье. Смертный тяжкий бой. Враг напал на нас, силен и изворотлив.
Весь народ поднялся на защиту Родины своей. Вровень всем поднялись и северяне. Встали на борьбу за жизнь, за правду и свободу. Невпервой стеной стоять им. Невпервой их рука не дрогнет на прави́ле, невпервой их глаз наметит в точку цель удара, невпервой их тяжелый верный штык найдет свой путь. Беломорский край, суровый и отлеглой, закалил сыновей и дочерей своих, научил за отчий дом стоять, научил беречь, хранить жизнь привольную свою, научил плечо и руку соседа – друга верного – ценить, научил и кормщика избрать.
Не помедлив поднялися все по воинскому долгу, по заветам дедов и отцов, по зову разума и сердца своего, по призыву кормщиков своих. Бой идет. Бой кровавый долгий. Готовы северяне нести все тяготы его, нести их до конца. А где, когда, какой конец? Конец один – победный, он впереди. Держит каждый ту победу во своей руке, хранит и в памяти, и в сердце каждый ту задумку о победе. Коль придет такое дело, верные сыны и дочери жизнь свою, которая зовет и манит дальше, отдать готовы за Мать-Родину свою, за правую победу. Извечно повелося так у нас, и будет так. Напутствие сердечное им всем дала страна родная – в узелочке горсточка отеческой земли и на груди благословение материнское. Нерушимы заветы эти. Они – опора в тяготах, надежда, свет впереди. В котомочке заплечной чистая рубаха, так, на случай. Книжечка заветная там же, она не раз утешит в горький час.
Но с поля ратного, победного возвернулися не все. Огневая буря обожгла, спалила многих, а они-то, не дрогнувши, стремилися вперед к вечному концу кровавых битв, стремилися к жизни мирной, труду и счастью. Полегли бойцы отважные, кто в землю, кто на дно морское. Полегли в бою, за дело правое положили жизнь свою.
И в печали, горести великой, но не тяготит, легко лежит над ними кровью их политая земля. По вёснам, летом приветно зеленеет и цветет для них она, в осенню пору под листом багряным, памятным, отдыхать зачнет, а в зиму ее белый снег покроет, легкий, чистый. Хранит и бережет земля родная защитников своих. Оберегает море их и в спокое, и в грозе, и в шторме ином. На дне морском в тиши, на глубях темных не тревожит их каменье перекатное, не засыпают их пески.
Покой уснувшим вечный. Почет уснувшим вечный. Память вечная.
Как пришли до дому вести скорбные, запечалился весь Поморский край. Белая береза молодая обронила слезу чистую, ива старая горючи слезы пролила. Загудели, как струна на ветрах, сосны мачтовые, зашумели глухо ели темные, вересок душмяный ране времени сини ягоды сронил. Пестры цветики позакрыли чашечки свои, и трава, высокая зеленая трава, склонилась долу. Накатила туча грозовая, огневая молния рассекла ее, скрылся месяц, закатилось Солнце в огневой заре вечерней, прокатились громы, пролились дожди, простучали градины, затревожились сполохи, и пали звезды до земли, всколыхнулась она. Горе-горькое…
Застонал, рыдает взводень ярый беломорский. А с востока налетели ветры буйные, рвут они со взводней гребни пенные. И пылит, бушует горькой вестью растревоженное море, с силой бьет накат на берег, бьет об угор высокий и взлетает до вершин кекуров. В пене, с грохотом несет он слезы гневные, кровавые, слезы горя неизбывного, сердце рвущего. Тяжелы те слезы – пробивают они камень, скалы, хоронятся в них. Море Белое их льет. Это память моря вечная по воинам – защитникам своим. Каплей каменеет на век каждая соленая беломорская слеза. Памятен тот камень каждому, повидавшему его, темным пламенем горит и не меркнет он. То гранат – печали сердца камень. Трудно открывают его скалы – берегут. Берегут и те, кому открылся он.
С поля ратного возвернулися не все.
И звенел литийный колокол. Звенел не день, не два. Звенел он скорбно и протяжно, печали полон. Звенел тот колокол, что один еще остался на деревянной старой звоннице, три века пережившей. Она-то, красота нетленная, служила верно памяти народной. По всему Беломорью слышали тот звон.
В домах и родных, и близких, и далеких память верная живет – о воинах-защитниках, о их пути отважном, тяжком и победном. Живет неизбывная, гордая матери печаль, матери, отдавшей Родине сокровище свое. Живет и память-гореванье молодой жены, осталась ей лишь песня недопетая о счастливой жизни. Живет и образ светлый воина-героя, память детская по отцу родному.
Помнят все свои утраты и не забудут их. Это нашей Родины утраты. Их не забывают и утрат не знавшие. След в след отцам идут сыны вперед. Теперь они – защита жизни, совести и правды на всей Земле. Они – опора наша верная: борцы за мир…
Прошли года. Завоевана Победа долгожданная. И звенит многоголосный хор народный, как колокол звенит. Победу славит.
ДРУГИЕ ФРАГМЕНТЫ ОБ УНЕЖМЕ
.
Из главы «Поморская справа»:
Одежда помора проста и практична как по ткани, так и по покрою. «Всё сами улаживаем по-хозяйски и с умом», – сказала мне М. Агафелова из Унежмы.
Из главы «Поморские разговоры»:
Был разговор в Унежме, у Парамоновны – Парасковии Парамоновны Ампиловой:
– Что такое – живое слово?
Она отвечает:
– Живущее в нас или у нас, в нашем житье-бытье.
Второй человек – рыбак – объясняет:
– Живое слово – это когда вопросы задаешь, путь для своей мысли прокладываешь с помощью книг или газет или разговоров.
Я никогда не думала, что разговоры о языке будут так интересны поморам. Куда интереснее, чем в школе на уроках.
– Ну-ко, ну-ко! Что о слове скажешь?
– Без слова человеку не жить.
– Почему без слова – без хлеба не жить.
– Без слова и хлеба не испечешь.
В поморской деревне услышишь: «Наше слово, мы сказали».
Из главы «Поморы об Аввакуме»:
В 1953 году была я в Унежме. За деревней, близ берега морского, стояла там церковь, деревянная, огромная, уже почти заброшенная. Пожилая женщина серпом срезала у ее стен сильно разросшуюся траву. Разговорились. Она сетовала на то, что деревня пустеет, народ расходится, дома заколочены, церковь рушится. Старой веры люди еще собираются у одной старушки – она читает старые книги, рассказы ведет. А церкву содержать некому. «О чем же рассказы ведут?» – спросила я. «Как в старину жили, крепко на своей земле и при своем деле сидели, о праведниках наших».
Женщина была старой веры. Она вспомнила об Аввакуме и его жене – Настасьице.
«Женку-то свою как жалел душевно, и лаской мужниной не обошел. Детки у ней были, женщины без их тоскуют. Она с ими терпела голод и муки. Двойна ей тягота – за деток страдание. Откуда силы брала! Напиши ты о ней в газетке какой. О матерях, дочерях пишут, а о мужней жене не пишут. Без жены мужик – сирота, семья рушится. Сколько жена на себе несет тягот! Напиши, у тебя слово наше, понятное. Мать она тоже».
__________________________________
Интегрированное внеклассное мероприятие
Литературно–краеведческая гостиная
"Ксения Петровна Гемп - «Ломоносов в юбке»
МБОУ «Вохтинская СОШ»,
Архангельская обл., Вилегодский р-н,
п. Широкий Прилук,
учитель русского языка и литературы
Кондакова Татьяна Григорьевна,
учитель истории и обществознания
Стенина Марьяна Валентиновна
Цель : знакомство с личностью К.П. Гемп и её заслугами перед Русским Севером.
Задачи:
Организовать работу по изучению биографии Гемп и отрывков из научных трудов.
Развивать умения учащихся аргументировано представлять свое мнение, излагать материал, работать со словом.
Показать важность нравственно-волевых усилий человека, гражданина. Воспитывать чувство любви к малой родине, Северу.
Форма мероприятия: литературно–краеведческая гостиная.
Учащиеся 6, 9-11 классов разделены на 5 групп: историки, биографы, актёры, лингвисты, читатели.
Оформление: столики, северные полотенца, деревянная и берестяная утварь, подсвечник со свечой.
Техническое сопровождение: компьютер, проектор, телеэкран.
Эпиграф : “Мира не узнаешь, не зная края своего”
Ход мероприятия
Мелодия "Милый Север"
Учитель литературы:
Да, только здесь, на Севере моем,
Такие дали и такие зори,
Дрейфующие льдины в Белом море,
Игра сполохов на небе ночном.
Здесь, словно в сказке, каждая тропа
Вас к роднику выводит непременно.
И уж, конечно, нет нигде людей,
Такой души и прямоты, и силы…
Учитель истории:
Тема нашей встречи – "Ксения Петровна Гемп - «Ломоносов в юбке»".
Кто слышал это имя? Что вы знаете о К.П. Гемп?
Целеполагание.
К.П. Гемп - историк, этнограф, краевед, учёный-альголог (водорослевед), ; почётный гражданин города Архангельска; автор многочисленных трудов по истории и культуре Русского Севера.
- Слово историкам, которые расскажут о звании "Почётный гражданин города Архангельска"
Историки:
Это звание существовало до 1917 года, потом было возобновлено решением горисполкома в 1974 году, а новое утверждено постановлением мэра в 1995 году.
Присваивается оно за выдающиеся заслуги граждан перед городом в целях поощрения личной деятельности, направленной на пользу города, обеспечение его благополучия и процветания. В списке Почетных граждан Архангельска – Гемп Ксения Петровна,
Всего 30 человек.
Учитель литературы:
На свете существует множество профессий: историк, биолог, географ, писатель, этнограф, фольклорист, краевед, гидролог, педагог, музыковед, медик, археолог… Обычно люди владеют одной или двумя профессиями. Но был такой человек, который владел всеми перечисленными профессиями. “Настоящий Ломоносов”,– скажете вы. Да, Ломоносов. Таким человеком была женщина. Звали ее Ксения Петровна Гемп. Как и Ломоносов, она обладала энциклопедическими знаниями и много сделала для России. И если Московский университет носит имя М.В.Ломоносова, то К. П. Гемп навечно стала почетным гражданином города Архангельска. В один из своих отпусков, которых у нее в расхожем понимании этого слова никогда и не было, она прошла путь Ломоносова от Холмогор до Москвы. Как и у Ломоносова, биография Гемп связана с Русским Севером, который она не только любила, но и прекрасно знала.
Великую верность и любовь к Северу явила коренная архангелогородка, женщина удивительной судьбы. Долгая её жизнь – Ксения Петровна Гемп умерла на 104-ом году – была насыщена одухотворенной страстью к знаниям, разнообразием интересов и творчества и неизменной просветительской деятельностью.
Начало тому было положено домашним интеллектуально-нравственным воспитанием в большой потомственно-дворянской семье отца Петра Герардовича Минейко (1868-1920), инженера архангельского порта. Детям прививали интерес к чтению, к литературе, музыке, изучению иностранных языков, познанию родного края, вырабатывали навыки наблюдательности и понимания природных явлений.
Учитель истории:
К. П. Гемп была личностью незаурядной. Когда ее спрашивали: “ Что значит стать личностью?” Она отвечала: “Это, прежде всего, представить весь окружающий тебя мир, учесть свои силы и способности и использовать их так, чтобы принести как можно больше пользы. Можно быть тестомесом, шить тапочки – и быть личностью. Это не профессией, не орденами да званиями определяется”. И добавляла, что “личность – это самое высокое звание человека. И в этом звании нужно утверждаться всю жизнь”.
Слово биографам:
– Историю освоения Севера К.Гемп знала, как никто другой. Да она и сама была живой историей. Родилась в 1894 году в семье Петра Герардовича Минейко, который построил едва ли не большинство портов на Русском Севере.
– Она была праправнучкой лейтенанта Беклемишева, участника экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева к берегам Антарктиды.
– выпускница исторического отделения Высших женских (Бестужевских) курсов, она была в дружеских отношениях с легендарными исследователями Арктики Георгием Седовым и Владимиром Русановым.
– Ее редкостная память хранила живые черты писателя Александра Грина, отбывавшего ссылку в Архангельске, и “великой сказительницы с Пинеги” Марии Кривополеновой.
– Гемп превосходно знала историю Архангельска и селений на Белом море,историю северных монастырей и старообрядчества на Севере.
– Не раз она была участницей и руководительницей научных экспедиций по Белому, Балтийскому и Баренцеву морям, по Заполярью.
– Гидрограф Гемп море умела читать, как книгу. Кто из мореходов не знает ее знаменитую “Книгу мореходную”– это выдающийся памятник поморского мореплавания 18 столетия. Много лет она работала над ней. В 1980году она вышла в свет и стала библиографической редкостью.
Учитель истории:
Война. Открытия. Разработки.
Видео:0мин.57 сек. - 2 мин.45 сек.
20мин.08 сек. - 21.00
Учитель литературы:
– Писательница Гемп много лет по крупицам собирала “поморские разговоры” и написала “Сказ о Беломорье”, книгу, в которой, по отзыву академика Д.С.Лихачева, создана “ грандиозная картина поморской и крестьянской культуры Русского Севера”. Сердцевина книги – Беломорье и его люди.
– Ф.Абрамов в своей статье “К.Гемп и ее “Сказ о Беломорье” писал, что “повествование К.П.Гемп о поморах, об их жизни и быте, об их нравах и обычаях, об особом – высочайшем – в их среде культе слова можно без преувеличения назвать энциклопедией народной культуры Беломорья”.
Слово читателям: чтение отрывков.
Впервые я повстречалась с Белым морем, его берегами, деревнями и селами поморов, с их бытом и культурой в 1903 году. Это было шестинедельное путешествие...
Всё было для нас новым, особенным. Все запомнилось навсегда, усилило интерес и любовь к своему краю.
2. Откуда есть пошло имя поморское:
О заселении Беломорья в 14 веке говорят многочисленные документы: летописи, писцовые книги, великокняжеские грамоты и указы. Отсутствие на Севере татарского ига, отсутствие крепостного угнетения обеспечили поморам более свободную жизнь и дальнейшее развитие...
3. Красовались на берегах... большие деревни и села Беломорья. На угорах стояли рубленные и бревенчатые хоромы-избы.
Дом срубили, теперь обряжать да обживать его. Все старые поморские строения отличаются не только соразмерностью архитектурных линий, законченностью, но и практичностью. В них нет ничего лишнего, но есть все необходимое для жизни в условиях Севера, для работы поморской семьи.
4. Поморская семья – своеобразный мир, отличала его взаимная уважительность всех ее членов. Раньше Дашек да Палашек здесь не встретишь, малыши Дарьюшки да Полюшки, девушки Дашеньки да Пелагеюшки, а вышли замуж – уже и по батюшке величают. Отца величали батюшкой, мать – мамушкой, а крестную – матушкой. Все подчинялись отцу-матери без прекословия, уважительно относились ко всем старшим родичам, особенно к крестным.
5. Труд на море требовал от каждого помора не только физической силы, выносливости, закалки, сноровки, но и отличного знания морского дела, морского пути, навыков в промысле рыбы и зверя. Ни стужа, ни ветры, ни дальние пути не пугали помора.
Суровое трудовое воспитание получали поморские ребята. Мужественных, цельных, непреклонных, твердых характером людей воспитывали.
Лото Поморская «Справа» (одежда)
Кожух- непромокаемая куртка;
Окутка шейная- шарф, вязанный из толстой шерстяной нити;
Бухмарка- зимняя шапка из пыжика с ушами до подбородка;
Бахилы- кожаные, широконосые сапоги;
Катанки- валяные сапоги из коровьей шерсти.
Пимы- меховые сапоги из шкуры оленя, мехом наружу.
Исподница- рубашка нательная из беленого холста с короткими рукавами до локтя
Сарафан- безрукавая одежда
Передник- фартук
Шаль- большой платок фабричной работы
Почелок- праздничный головной убор девушки, шит шелками и часто жемчугом
Выставки- башмаки с небольшим каблучком
Актёры.
(театральная заставка)
ПорАто-ль мнОго, деФка, гУбок-то наломАла?
Дак, дорОдно – жарЁхи-то поИссь…
Мы-то с ИрИньёй сЕйгод ишшА не хАживали в лЕсы-то…
ЖОнки,водА-то зарУбила,нет?
ЛУду-то водОй снЕло, не выгОливат…
РЫба-то о сАму берЕжину мырИт.
Лингвисты: викторина Поморские говоры
(словарь поморов)
бабушка- игрушка
байна- баня
вертеха- непостоянная, легкомысленная
галить- шуметь, безобразничать
говоркая- говорливая
заводь- небольшая бухта
зыбка- колыбель, подвешенная на гибком очепе
корга- каменистая мель
лабордан- сушеная треска
лики- иконы
любушка- любимая женщина, но не жена
молодуха- молодая замужняя женщина
окстись- перекрестись
паужна- застолье между обедом и ужином
прокудить- проказничать
старины- рассказы о далеком прошлом
тоснуть- болеть, ныть
шоркать- протирать
яры- крутояры- крутой некаменистый берег- глинистый
Учитель истории:
“Поморский словарь” она считала главным своим делом. А словарь с каждым днем все рос и рос. И в самом деле, как было не вставить в него раздел “Ласкотные слова”. Ксения Петровна говорила: “Это чудо какое-то, слова-то какие находили женщины, чтобы детей приголубить”
И, как бы извиняясь, добавляла: “Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев меня окончательно уговорил: включу в словарь и ругательные слова. Самое-то сильное у поморов ругательство – прохвост”
К. Гемп оставила нам в наследство единственный в своем роде “Поморский словарь” с тысячами забытых и полузабытых русских слов.
Учитель литературы:
Через всю свою жизнь Ксения Петровна пронесла любовь к русскому языку и создателю русского литературного языка, величайшему поэту А.С.Пушкину.Многие из произведений она знала наизусть. Собрала уникальную Пушкиниану.
Видео - 25мин.10 сек.- 26 мин.11сек.
(В доме было 22 книжных шкафа) Читала все, что ее интересовало, причем в 80 лет могла читать без очков любой мелкий шрифт.
Скончалась она в 1998 году на 104-м году жизни. Она была явлением в истории, науке и культуре России. Всю свою жизнь она прожила во имя общего Духа, делающего человека Человеком.
Уч. истории:
СЕВЕРЯНЕ... Север, север – без конца, без края, ледяных просторов торжество! Северу навечно оставляем – мы частичку сердца своего!!! Вот они – новаторы – учёные, представители науки и культуры, просвещения, словом, интеллектуальная элита Поморья, – они внесли достойный вклад в развитие Архангельской области и Отечества. Именно они приумножили могущество Русского Севера и России – честь и слава им за это! Вечная им память!
Видео: 0- 57сек.
26 мин. 12 сек.
Зажжение свечи
Рефлексия: Если сегодняшний разговор о К.П. Гемп показался вам важным для осмысления понятия "родина", интересным и познавательным, зажгите свою свечу в честь этой замечательной северянки.
Ксения ГЕМП
СКАЗ О БЕЛОМОРЬЕ
Фрагменты из книги
Заселение Поморья
Давно заселяются берега Белого моря, но еще до сих пор они не многолюдны. По железной дороге на Мурманск, с добавкой пешего хождения, можно добраться ко всем селениям от Онеги до Кандалакши. А по Канинскому, Абрамовскому, Зимнему, Летнему, Онежскому, Кандалакшскому и Терскому берегам от одного поселения до другого надо шагать и шагать: либо по тракту, либо тропой, либо берегом. «Торные» эти пути-дорожки: то увалы-перевалы, то каменья россыпью и навалом, а песками идти тоже не радость. Вот и говорят об этих путях: «Идешь, и на девятый дён всего-то десята верста». Можно идти и с «попутчими» — под парусом на карбасе, а то и на моторке. На некоторые участки можно и на рейсовом пароходе добраться. Многое увидишь, многих повстречаешь, много рассказов услышишь во время пути. Но и времени на дороги уходит немало, и пути, как говорят поморы, «не круглогодовые». Поэтому такой успех имеет призыв «Летайте самолетами!» Но и им пути заказаны в беломорскую «погоду» и туманы.
Есть в Беломорье небольшие деревушки — не более десятка домов, но некоторые старые промысловые села и по сей день тянутся вдоль берегов на километр. Многие поселения упоминаются в документах конца ХIУ века; это корабельные пристанища на Летнем берегу двинского залива: Уна, Луда, Ненокса. В более поздних документах, ХУI века, встречаются названия: Солза, Сюзьма, Яреньга.
В конце ХIУ — начале ХУ века уже заселены, отдельными пятнами, материковые берега и острова в дельте и в предустьевом пространстве Северной Двины. Поселения, возникшие более пятисот лет назад, здравствуют и в наши дни. Это Княжестров, Кяростров, Конецдворье, Кудьма. В те же времена был основан Николо-Корельский монастырь. На территории, где он находился, вырос крупный город Северодвинск.
Заселяются берега и Онежского залива. В документах первой половины ХУ века упоминаются Сорока, Сума, Кемь и Соловецкие острова. Особенно много поселений возникает на юго-западных берегах Онежского залива в первой половине ХУI века: Шуя, Нюхча, Нименьга, Унежма, Колежма. Позднее осваиваются восточный берег залива и Лямицкий берег Онежского полуострова. Деревни Пурнема, Лямца, Пушлахта появляются в начале ХУII века.
В Кандалакшском заливе на Карельском берегу в первой половине ХУI века уже известны Кереть, Чупа, Ковда. На Кандалакшском же берегу залива деревни Порья, Костариха, Сальница, Умба.
Растет число поселений в ХУ—ХУI и первой половине ХУII века на Терском берегу: Кашкаранцы, Варзуга, Кузомень, Тетрино; а Пялица, Поной —- это уже Горло моря.
На Зимнем берегу первые редкие поселения — однодворки, двудворки — возникают не позднее конца ХIУ века. В ХУII—ХУIII веках район осваивается интенсивно, здесь расселяются в основном промысловики-зверобои. Этот район ближе к основным скоплениям-залежкам морского зверя. Наиболее старые поселения. — Куя, Керец, Инцы, Мегры, Майда, Койда, Кеды.
«Зимняя сторона» и Золотицкая слободка упоминаются в документах Сийского монастыря ХУ и ХУI веков. Здесь монастырь кроме рыбных и солеваренных угодий имел еще и «сокольи гнезда», и бобровые ловища.
На этом берегу было больше, чем на других, старообрядческих скитов. Отсюда им был открыт путь на Кулой, Мезень и Печору, подальше от «злого глаза». Возможно, что скиты в ХУII веке — первые крупные здесь поселения.
В процессе освоения Беломорья в период ХI—ХУI веков различаются три крупных потока поселенцев: новгородский - псковский, владимирский - ростовский - суздальский и московский. Поселенцы различных по времени потоков оседали по берегам Выга, Онеги, Двины и их притоков. Многие, главным образом первопроходцы-новгородцы, выходили в устья этих рек и шли дальше к северу на восток и запад вдоль морских берегов. Так постепенно были заселены все берега Белого моря. Редкие поселения растянулись на восток до мыса Канин Нос, а на запад почти до мыса Святой Нос. К концу ХУI века на берегах Белого моря насчитывалось около двухсот постоянных промысловых поселений-становищ. Часть их принадлежала Соловецкому, Антониев-Сийскому, Николо-Корельскому и даже Кирилло-Белозерскому монастырям. Первоначально поселения были невелики, два-три двора, были и однодворки. Но уже к ХУI веку по южному и западному берегам Белого моря многие мелкие поселения, например Ненокса, Сума, Кереть, Варзуга, разрослись в крупные деревни и посады с многочисленными солеварнями, часовнями, храмами и приходами, а следовательно, и большим населением. Крупные промысловые поселения организовывали свои «выселки» не только в Беломорье, но и на Мурманском берегу Баренцева моря. По переписным книгам 1608—1610 годов на Мурмане насчитано сорок семь постоянных поселений, связанных так или иначе с Беломорьем, они его не миновали. Кроме постоянных поселений, на морских берегах на период морской страды— путины и зверобойки — возникали временные поселения — станы.
В условиях морского Севера заново определились занятия и сложился быт поселенцев, они были тесно связаны с новой жизнью у моря. За поселенцами с ХII века закрепилось наименование «поморы». Потомки коренного населения всех берегов Белого и Баренцева морей гордятся этим именем. Предки нынешних поморов впервые осваивали берега и водные просторы холодных, грозных морей Студеного и Студенца (Баренцева), а они продолжают исконно поморские дела. Ну а при- шедшие на северные моря уже в нашем веке еще не заслужили этого почетного имени. От них-то и пошла легенда о том, что поморы только те, кто промышляет морского зверя в Баренцевом море. Эту легенду, приняв ее за истину, впервые записал Вас.И.Немирович-Данченко, а некоторые современные исследователи, не проверив, подхватили ее и включили в свои труды как новейшее открытие.
Отсутствие на Севере татарского ига, большая, чем в центре страны, безопасность от внешнего врага, отсутствие крепостного угнетения обеспечили поморам более свободную жизнь и не только сохранение, но и дальнейшее развитие принесенных поселенцами культурных и технических ценностей: грамотности, строительных навыков, архитектурных приемов, рисунка и живописи, поэтического творчества — песен и сказываний. Суровую природу — заломные леса, «лешие» болота и каменья неподступные необходимо было осваивать заново. В этом труде одновременно лесоруба, строителя, добытчика, создателя всех предметов домашнего обихода формировался характер помора, его мужество, смекалка, складывались и закреплялись быт и обычаи.
И что особенно примечательно, в течение ХIII— ХУI веков на основе русской лексики — и новгородцев, в пёрвую очередь, и пришельцев из центральных областей — окончательно определилась и беломорская лексика: беломорский диалект и бытовая терминология.
Население Беломорья промышляло рыбу, морского и пушного зверя, варило соль, разводило скот, возделывало огородцы, а кое-где и обрабатывало землю под нашню. Развивался и жемчужный промысел. Многие рыбные и зверобойные промысловые участки, обычно наиболее продуктивные, захватывали северные монастыри — Соловецкий, Сийский, Николо-Корельский, Михайло-Архангельский. К ХУII веку здесь расширяют владения и монастыри подмосковные.
О раннем - в ХIУ веке - заселении Беломорья говорят многочисленные документы: летописи, писцовые книги, великокняжеские грамоты и указы. Появление более поздних поселений, ХУ—ХУI веков, подтверждается дополнительными сведениями. Это купчие, причем не только на участки земли, но и на промыслы, а также вкладные в монастыри и церкви, в которых указаны и имена вкладчиков, и характер, и размеры вкладов. Все эти документы свидетельствуют о том, что главными захватчиками беломорских земель и угодий были отряды богатой знати Новгорода, например Марфы Борецкой, Своеземцевых, Окладниковых, затем монастыри (впереди всех шел Соловецкий) и, наконец, поселенцы-смельчаки, на свой страх и риск осваивавшие то, что осталось на их долю. Последние свои трудом и обжили Беломорье, вышли за его пределы, на моря Северного Ледовитого океана. Это они и их потомки с полным правом гордятся именем — поморы.
Поселения в Поморье
Все, вновь пришедшие промышлять в Беломорье, первоначально ставили в бухтах, близ пресной воды, в устьях рек и ручьев, которых много впадает в Белое море, временные пристанища, а потом, освоившись с природными условиями, выяснив, где можно поставить, избу, взять лес для стройки, где сенокосы и охота, где и что можно промышлять в море, уже оседали прочно, хозяевами. Первые поселения-однодворки были рассеяны среди редких поселений карелов и саамов. Пришельцы жили с соседями мирно, всем хватало землицы. Однодворки со временем разрастались в крупные поселения. Рост их был связан с основным занятием жителей — с морскими промыслами, которые требовали артельной работы.
Красовались на берегах эти большие деревни и села Беломорья. На угорах стояли рубленные и «в лапу», и «в обло» бревенчатые хоромы-избы. Венцы выложены так плотно, что кажется, бревно в бревно вросло. Между венцами проложен мох. Дом срубили, замшили, теперь обряжать да обживать его. «дома-то семьей да соседями подымали». Встречались в Беломорье дома и в два обоконья, то есть в два окна по фасаду, но не было лачуг. Старые дома, в прошлом веке строенные,—обычно пятистенки, пяти- а то и шести- семиоконные. Семьи были большие, не делились. Избы более поздней постройки — трех- и четырехоконные, реже пять окон по фасаду. Ставили избы вдоль берега «глазом на воду», чтобы видеть, как рыбаки с моря идут. Ставили и порядками по двум сторонам улицы или дороги (дома друг на друга глядели) или в россыпь, в зависимости от характера участка. Пересекались над ними пути всех ветров и вьюг, но дома были возведены осмотрительно, истово. «Нещелеваты наши хоромы, да и печи кладены своеручно, тепла не упущают», — гордилась Анна Александровна Майзерова из Яреньги. «Новгородска привычка, крепко строили для себя, для сынов, для внуков». Да, не на десять лет строили, на сотни и все из дерева. Славились своими хоромами Лопшеньга, Пурнема, Колежма, Сорока, Шуя, Кереть, Ковда, Варзуга. Хороши были хоромы мезенской Сёмжи, одно- в двухэтажные, здесь встречались висячие лестницы с рундуками и точеными перильцами (балясинами). «Мы ведь Москвы уголок, нам без красоты нельзя, — говаривала Анна Ефимовна Маслова. — Шелонники, те погрубже будут».
Считают местные жители, что Семжу основали выходцы из Москвы, потому и они все москвичи — их потомки. «У нас и говор московский». А шелонники — это новгородцы.
«Для постройки и избы, и амбарушки каждую лесину отбирали, чтобы была чистой и без всяких негодностей. Рубили и на островах, и на мшаринах, где дерево растет медленно, оно тяжельше и плотнее», — объяснял мне потомственный рыбак О.Двинин из Кузомени. Лещадь и известь возили на карбасах и па возках (павозок - небольшое крытое судно для перевозки грузов - К.Г.) с Двины, из самого Ступина да из Панилова. Там были и монастырские разработки известняков. Монастыри Соловецкий, Пертоминский, Никольский, Крестный, Михайловский, Сийский речными и морскими путями везли лещадь для своих строек. Стоят эти стройки и поныне. Лещадью были выложены стены Новодвинской крепости, а в архангельских Гостиных дворах полы и стены всех помещений.
Все старые поморские строения отличаются не только соразмерностью архитектурных линий, законченностью, но и практичностью. В них нет ничего лишнего, но есть все необходимое для жизни в условиях Севера, для работы поморской семьи. К тому же они гармонично согласуются с особенностями окружающей природы. Поэтому каждое селение имеет свое лицо. Пурнема не повторяет Сюзьму, а Летняя Золотица — Золотицу Зимнюю, хотя все на золотых песках, но в море у берегов не так играет, и речки не так текут, да в леса иные. Раз побывав в Лопшеньге или Поньгоме, их уже не спутаешь ни с каким другим тоже поморским селением на высоком берегу. В то же время везде встречаются деревянные постройки, рубленные одними и теми же приемами, но особенности расположения строений, объединения их жилой части с хозяйственной, детали покрытия, крыльца, убранство — всюду какие-то «свои». Вспомнишь не раз поморскую поговорку: «В кажной избушке свои погремушки, в кажной избе свой погремок, в кажной деревне свой обиход, а везде все наше — поморско».
Объяснение этому может быть только одно в каждом строении, в размещении их проявляется творчество, выдумка, индивидуальность создавших их мастеров.
Зоркий глаз, воспитанный морем, был у плотника-моряка, строителя морских лодий, павозков, карбасов. Его плотницкое мастерство, по сути дела, искусство -
так была обработана каждая деталь постройки, нигде ни щели, ни застружины, ни занозины. Все косяки пригнаны — не оторвешь, в проем между стеной и обоконьем (рамой) иглы не воткнешь, водостоки спустят всю дождевую и талую воду с крыши, а ее свесы защитят стены от любой воды. Вот и стоит века деревянная постройка, ремонта ежегодного не требует и не покосится, будь то хоромина, амбар или баня. «В карбасу щелеватом в море не пойдешь, а в избе продувной ветром не заживешь» — поморская поговорка (Сорока). Вот и строили на совесть, на века.
Поморская усадьба
В Беломорье дома обычно строили с высоким подклетом, на котором возводили жилое помещение. Это здание в один-два этажа, чаще всего заканчивающееся «по переду», то есть по фасаду, треугольным фронтоном, покрытым двускатной крышей с большими свесами. На соединении скатов красовался конек. Жилые и хозяйственные строения объединяются крытыми переходами и удлиненным скатом крыши, стороны двускатной крыши при этом утрачивают симметрию. Встречается объединение и разноскатной крышей: двускатность крыши жилого помещения не нарушается, а хозяйственные помещения покрываются отдельной односкатной крышей. Во всех случаях крыши объединены общим коньком. Все хозяйственные помещения примыкают к озадку, то есть к тыльной стороне жилого помещения. Подклет, двор для скота, поветь над ним, клети на повети и кладовые на переходах возводили так же прочно, как и жилье. В Подвинье по внешнему виду старого строения сразу отличишь жилые помещения от облегченных строений двора и повети: там им меньше забот уделяется, природные условия все же иные.
Поветь это одна из главных хозяйственных построек в Беломорье. «По двору да повети хозяйство-то судят». Она служила сеновалом, а кроме того, здесь хранились различные вещи промыслового, сельскохозяйственного и бытового назначения. С улицы в нее был особый въезд — наклонный настил тонких бревен на подпорах, по этому настилу-взвозу, заканчивающемуся площадкой перед воротами — входом на поветь, на возах поднимали сено, солому, бочки, запасные доски. Сено в ясли хлева спускали по мере надобности через колодец. На повети отгораживали клеть для хранения различных хозяйственных вещей.
Поветь не украшалась, но строитель уделял большое внимание входу с наружной площадки — широким двустворчатым воротам. Они оформлялись простым выразительным порталом из тесаных плах. Форма этого портала часто повторялась в портале ворот двора, их было видно с повети.
Отдельно от жилых и хозяйственных построек ставили амбары и бани. В амбарах хранили зерно, промысловое оборудование. Стоят они «край реки либо моря» и на пригорках, и на угорах. Стоят и рядком, и в одиночку. В Летней Золотице когда-то их было в ряду девять, на одном из них была вырезана дата — 1821 год. Амбар обычно приподнят над землей на массивные ножки или камни, подложенные под углы. Стены его глухие, тоже массивные. У некоторых амбаров двойные двери наружные сплошные и за ними внутренние решетчатые из строганых планок. Наличие внутренней двери позволяет хорошо проветривать амбар, если открыть дверь наружную. Небольшие размеры дверей хорошо оттеняют массивность всей постройки. Вход через высокий порог. Крыша двускатная, с большими свесами. Здание предохранено от почвенных и дождевых вод.
Изредка встречаются амбары, убранные причелинами с глухой резьбой, кистями и зубчатым нижним краем. Такой амбар видела в 1910 году в Сюзьме и несколько позднее в Лопшеньге. Амбары и без убранства запоминаются всем своим обликом — устойчивой массивностью, соразмерностью деталей, тщательностью всей постройки. Еще раз вспомнишь меткий глаз помора, создавшего архитектурный памятник.
Бани в Беломорье строили в одно помещение — мыльню с окошечком или в два — с добавкой предбанника. В некоторых банях еще двадцать лет назад для отопления сохранялась каменка печь, сложенная из камней. На каменке калили дополнительные камни, которые затем опускали в деревянные ушаты с водой для ее нагрева. Банные ушаты были несколько выше и шире обычных. Лавки (скамьи) и полки
в банях широкие, нашорканы голиком с дресвой (протерты старым веником с мелко истолченным камнем
- К.Г.). Стоки для воды в щели на полу. Привык помор, придя с промысла, попариться, поднаддав пару, плеснув на каменку воды, а то и кваску с мятой, веником похлестаться в этих жарких баньках. Многие поморы, и молодые, и пожилые, любят с жару «окупаться» в холодной воде речной или морской, а зимой в снегу поваляться. Говорят — «закалка».
Веники предпочитали березовые, но береза не везде встречается, пользовались и вениками ивовыми. Хранили веники на повети или под крышей бани. Запасали летом десятками.
Наружное убранство поморских жилых и хозяйственных построек сдержаннее, чем в Подвинье в Каргополье. Здесь, в северном суровом краю, убранство от этого не проигрывает, напротив, некоторая сдержанность позволяет более четко почувствовать и понять особенности поморского жилья, обихода и характера всего поселения в целом. Убранство состоит из дополнительных деталей, украшенных резьбой, В основном они традиционны для Севера, материалом для них служит дерево - строительный материал всей постройки. Традиционность убранства не ведет к копированию каких-либо образцов. Традиционен материал, приемы его использования и назначение деталей убранства, но исполнение деталей - это высокое искусство мастера, его понимание красоты. Понимание или, скорее, чувство, что к чему и как выразить это «что».
Наличники — наиболее распространенная форма убранства. Это украшение по наружной стене проемов окна и двери. Входные двери в беломорских домах обычно по проему в стене ограничены хорошо вытесанными плахами — толстыми досками, иногда они протесаны одной-двумя бороэдками. Резьбы на таком оформлении двери видеть мне не приходилось. Оконные наличники встречаются главным образом на более ранних, прошлого века постройках, еще хорошо сохранившихся в старых поселениях. В северной части Онежского полуострова они изредка встречаются в Неноксе, Уне, Лопшеньге и Летней Золотице. По южным берегам полуострова и Онежского залива наличники встречаются несколько чаще, они отмечены в Пушлахте, Лямце, Пурнеме, Нижмозере, Тамице, Кянде, Ворзогорах, Малошуйке. По берегам Карелии сохранилось больше старых деревень, а в них больше древних зданий, убранных наличниками. Их еще можно было увидеть на домах в Вирьме, Сумпосаде, Поньгоме, Колгалакше, Керети. В старых крупных поселениях Порье, Умбе, Варзуге, Кузомени и Тетрине наружному убранству домов уделялось меньше внимания, условия жизни здесь были более суровы, поэтому труда на повседневный обиход затрачивалось больше, чем, например, в хозяйствах по берегам Онежского залива. Кроме того, мужское население этих берегов ежегодно надолго уходило и на Мурманскую страду на лов рыбы, и на Кедовский путь— на зверобойный промысел.
Встречаются наличники с резными сложными фигурными навершиями, как бы венчающими окно, и с полочками под низом окна, на которое упирается все его убранство. Иногда наличники связаны со ставнями, покрытыми глухой резьбой различной сложности. Пользуются ставнями редко, они — украшение стены дома.
Украшались дома Беломорья кронштейнами под нижней слегой крыши и выступами потоков, казалось бы, простые, мелкие детали, но они были резаны с большим пониманием значения завершающего штриха жилья.
Балконы встречаются редко, они укреплены на фронтоне, против двери или окна горенки. Украшают дома и резные доски — причелины, крепившиеся по свесу крыши, они закрывают концы слег, на которые уложен тес крыши. Причелины заканчиваются резными кистями, а с конька крыши, между двух причелин, спускается резное полотенце. Под свесами крыши можно было увидеть резные доски и роспись.
Резьба на этих деталях была глухая и сквозная (ажурная). Узоры вдоль причелин идут поясками. Чаще встречается глухой геометрический узор, к нему добавляются глухие и сквозные круги, полукружия, овалы и перекрещенные линии. Край причелины резался выемками различной формы и зубчиками. «В зубок», — говорят в Уне. Резьба края напоминает кружево. Концы кистей прорезались в виде капель различной величины, зубцов и удлиненных треугольников, вершины которых или примыкали к основе кисти, или заканчивали ее. Все зависело от мастерства, художественного чутья и фантазии резчика. Резали топором и ножом, зачищали «гладили резьбу» теслом. Вот и весь набор инструментов творца деревянного кружева.
Войти в жилое помещение можно не только по крыльцу через сени, но и поветью через переход в сени, Крыльцо обычно пристроено к боковой стенке дома. Его устройству и убранству придавалось особое значение. Оно высокое, его площадка покоится на тесаных столбах, круглых или четырехгранных, над нею навес, опирающийся на фигурные столбики, марш иногда обнесен перильцами, столбиками, тоже фигурными, кувшинчиком. Все это — внимание к входящему в дом: еще не отворил двери в сени, а гость уже под хозяйской крышей.
Жилое помещение поморского дома-четырехстенки состоит из сеней, избы и горницы. Из сеней вход ведет в избу, она отделена перегородкой (заборкой) от горниц, занимающей площадь по фасаду дома. В некоторых домах из сеней есть еще вход в небольшую вторую горницу — «боковуху», или «повалушу». Окна ее прорезаны на боковой стене дома, следом за окнами избы. Пятистенки имеют две горницы по фасаду, а бывает, и еще одну боковую комнату рядом с избой, «шолнушу». В некоторых деревнях Беломорья горницей, или чаще горенкой, называют жилое помещение на вышке.
Внутренняя отделка и убранство жилых помещений зависели от хозяев, но повсюду соблюдались общие поморские традиции. Бревенчатые стены отесаны «в гладь», углы округлены. В горнице можно увидеть стены, обшитые до половины высоты тесаными дощечками, уложенными «в дорожку» или «в елку». Однажды встретила в Беломорске (Сороке) украшение простенка между двумя фасадными окнами дощечками, уложенными «в звезду». В 1914 году видела великолепное убранство внутренних стен церкви на Кондострове — дощечками, выложенвыми «в дорожку», а 1968 году — остатки внутренней обшивки в здании почты в Семже на Мезени.
Повседневная жизнь поморской семьи сосредоточивалась в том помещении жилища, которое издавна зовется «изба». Здесь собиралась вся семья для работы, трапезы, для бесед. Здесь спала та часть семьи, про которую говорили: «И стар и мал тепла хочет». Значительную часть площади избы занимала большая беленая печь, известная под названием «русская». Она стояла влево или вправо от входа, у стены, противоположной окнам бокового фасада. Складывали ее на особом прочном фундаменте, заложенном в подполе, или подклете. Печь была массивной и своеобразно красивой, с припечьем, большим зевом, закрываемым заслоном, с подпечкой и лежанкой. В каждом доме она отличалась какими-то своими деталями, в которых сказывался характер хозяина. Печи были кирпичные и глинобитные.
Низ печи, подпечье, часто обшивали в стойку тесаными дороженными дощечками, которые окрашивались в приглушенные коричневые или зеленые тона. В иных хозяйствах обшивка была разрисована. Любили поморки красками писать травы, розаны и цветики-глазки. В Беломорье много «шипишника» —шиповника, его цветки в есть розаны, а лютики — глазки.
Печь обслуживала многочисленные бытовые нужды семьи: обогревала все жилище, в ней пекли хлебушко, пироги, рыбники, шаньги, варили щи и кашу, сушили сухари для промысловиков, сущик, ставили творог, парили белье, допаривали пойло для скота, на ее лежанке спали. «Ох, печь-матушка, обогрей-ко да накорми пришлого со страды», — говорили поморы-промысловики. А поморки точно и ясно определили значение печи: «Без печи-то не жить». Поэтому печникам-мастерам оказывали такой же почет, как пастухам, хранителям скота.
Обычно печь подходила близко к капитальной стене здания только своей задней стенкой. Пространство между боковой стенкой печи и перегородкой, отделяющей избу от горницы, называли заулком, там на полках хранили крупную кухонную посуду — чугуны, ладки (удлиненное глиняное блюдо для запекания рыбы в печи
- К.Г.), горшки, сковороды и ведра. Из заулка поднимались на поверхность печи — лежанку. На боковой стенке печи, первой от входа, выкладывались углубления — печуры, печурки, душники — для сушки рукавиц, чулок, носков. На обшивке этой стенки укрепляли полку-голбчик для сушки шапок, бузурунок и мелкой обуви. Верхнюю одежду и бахилы развешивали для сушки в сенях и в кладовухе, иногда и на повети, в стены для этого были вбиты деревянные костыли. У входа, обычно в углу у печи, был подвешен над тазом рукомойник, медный, с одним или двумя носками.
В переднем углу (его положение определялось положением печи: если она влево от входа, передний угол под окнами справа, и наоборот) вдоль его стен стояли лавки — широкие скамьи, иногда украшенные резными подзорами. Перед лавками стоял стол на массивных ножках-тумбах, обычно с резными поясками. Столешница толщиной в 2-З пальца, стол легко не сдвинешь. На стенах полки и поставцы с посудой. Почти во всех хозяйствах можно было увидеть расставленную в поставцах для украшения - ею не пользовались - прекрасную соловецкую глиняную посуду: блюда, тарелки; на полках миски, кружки, кувшины. Близ Летней Золотицы когда-то был карьер Соловецкого монастыря. Соловецкая посуда из глины этого карьера славилась тонкостью стенки, красотой форм, тщательностью отделки, рельефными украшениями, глубоким коричневым тоном и великолепным обжигом. Тонкий черепок звенел, как хрусталь, и на изломе искрился. За этой посудой специально ходили на Соловки не только из Онежского залива, но и с Двины, Мезени, Печоры и Мурмана.
Встречалась в поставцах и «корабельная» посуда — привозная, еще на парусниках доставленная, потому и «корабельная». Это обычно голландский и английский фаянс. На рисунках дамы в фижмах, кавалеры в шляпах с перьями, прогуливающиеся в садах.
От фасадной стены до печи избы шла широкая полка, особенно часто встречалась она в избах по Летнему, Онежскому и Поморскому берегам, называли ее воронец, а в иных деревнях голубец. На ней стояла посуда красной и желтой меди: братины, чаши, ендовы, начищенные до солнечного блеска хлебной закваской с давленой клюквой. На каждой посудине клеймо Выгорецкого старообрядческого общежительства. Посуда эта употреблялась редко. К большим праздникам ставили рощу, варили домашнее черное солодовое пиво, вот только это пиво, а не брагу, и наливали в братину. Была и оловянная посуда — замечательные изделия Соловецкого монастыря — стаканы, чаши, миски, тарелки п блюдья. В монастыре их ставили на столы для трапезы. Приобрести такую посуду было трудно, вырабатывали ее мало — разве что настоятель одарит богомольца, не поскупившегося на вклад.
Почти в каждом хозяйстве были предметы повседневного обихода, изготовленные на месте либо самими хозяевами, либо местным умельцем. Это резаные и точеные деревянные чаши, миски, ночевки, корытца, ложки, собранные из клепки квашенки, бочонки, ушаты различных размеров и назначений. Эту посуду, за исключением ложек, ни резьбой, ни рисунком обычно не украшали.
Богато были украшены рубеля для катки на валках выстиранной одежды, полотенец, скатертей, различных подстилок и накрывашек, украшались прялки, ткацкие станы — кросна. Тут были и резьба, и рисунок. Как-то я видела в Семже самопрялку: каждая спица ее колеса была резной, мелкие детали следовали в определенной последовательности, спицы точно повторяли одна другую по форме, резьбе и росписи. А было их тридцать две, «как насечек на «матке» (на компасе), объяснила мне владелица. И тут — море отозвалось. Обод колеса был расписан «в полосу». Эту прялку сделал дед хозяйки, которой в 1966 году было 76 лет. Резал он прялку топором и ножом. Донца и лопатки прялки были расписаны, верх лопатки резной. Но самое удивительное—это чудесное веретено, точеное, с росписью. Веретено — часть важнейшая для каждой прялки, а этнографы, описывая их, часто забывают даже упомянуть о веретене. Сколько опыта, труда вложено в каждое! «Пяток донцев да лопаток дед изготовит, а веретенцо и одно иной раз за это время не успеет», — рассказывала А.Е.Маслова из Семжи. Веретено на волос не должно отклониться от отвеса. Какой расчет, какой глаз должен быть у веретенщика! Без веретена и прялка не прялка. Сплавились веретенщикв Мезени, Онеги и Пурнемы; заказывали веретена и на Каргопольщину в Лядины и в Лекшму. В приданое невесте давали веретено — бабки, а то и прабабки память.
Домашнего изготовления из дерева были грабли, лопаты, топорища, дуги. И на этих обыденных предметах встречается убранство: резьба в виде пояска или бусины — на конце ручек грабель и лопаты, роспись — на дугах. Из луба изготовляли лукошки, хлебницы; из бересты плели знаменитые туеса, солоницы, коробья, пестери и тухтыри. Для изготовления хозяйственных предметов из луба и бересты не употребляли гвоздей, части их соединяли, врезая одну в другую. Много посуды делали из глины, в ней варили пищу.
Хозяйственная обиходная утварь распределялась, в зависимости от назначения ее, по полкам, поставцам и шкафчикам в избе, в кладовухах и в клети на повети.
Горница, отделенная от избы перегородкой и выходящая окнами на фасад, обряжена была по-иному. Это была так называемая чистая половина. У боковой стены горницы стояла кровать, накрытая «покрывальем» с подзором, в изголовье ее возвышались подушки, три-четыре-пять, одна на другой. У второй боковой стены стоял комод с выдвижными ящиками, гордость хозяйки и надежда невест — дадут ли в приданое. По передней стене, между окон, поставец либо горка — шкафчик с застекленными дверцами, в ней нарядная посуда и памятные безделки, в нижней части — книги. Посередине горницы стол, вокруг табуреты, а позднее стулья. В переднем углу икона, родительское благословение на семейную жизнь, по ее бокам венчальные свечи хозяев. На стенах много фотографий родственников, прежде фотографы ходили по деревням. Все фотографии в рамках, часто в одну собрано несколько различных снимков. На подоконниках цветы: герань, фуксия, бальзамин, лимонное деревце. На окнах — завески.
В горнице иногда работали женщины, они шили, вязали, вышивали, но «не пылили», то есть не пряли и не ткали. Мужчины в горнице не работали.
Морской промысел
Морем живем, им кормимся, говорили поморы. На Мурманскую страду — за рыбой, на зверобойный промысел — к залежкам зверя уходили поморы не на один месяц в Мезенский залив, в Горло, на Кедовский путь, на Матку. Шли артелью, ватагой.
О многом должен был позаботиться помор, отправляясь на промысел, все необходимое каждый брал «со своего места». Много было забот и у поморок, снаряжавших отцов, мужей, сыновей харчем и справой на такой длительный срок, в места дальние, отлёглые. Кроме «хлебного» — муки, хлеба, сухарей, толокна, крупы, готовили особые продукты, пригодные к длительному хранению. Топленое масло заливали в туеса, морошку и толченую бруснику засыпали в бочата; укладывали связками особо обработанную треску-пластун (соленая провяленная рыба без хребта
- К.Г.), рунтовку (вяленая треска
- К.Г.) и лабордан (сушеная потрошеная треска без головы, но с хребтом
- К.Г.). Соль для повседневного обихода засыпали в тухтыри (сосуд из бересты с узким горлом, затыкаемый деревянной пробкой
- К.Г.) с пробкой. Готовили особые мешки для хлеба, калачей и сухарей. Хлебное на судне и на стане хранили «на ветри», его продувало, оно не бусело, то есть не плесневело. Миски, ложки заготовляли с запасом, на промысле не восстановишь поломанное или утраченное. Наконец вся справа к отходу вычищена, отстирана, починена. Дрова наготовлены, глинка заложена в ящики, она была необходима для устройства на льду помоста под костер.
Впереди проводы, к ним тоже готовились. Уходящие на страду и остающиеся семьи знали все тяготы и опасности промысла, поэтому провожали, как рассказывали мне в Чапоме, почестно. Там была записана отвальная коротушка:
На страдный весновальный
Без гуляночки отвальной
Нам не положено идти,
Отгуляем дома до обратного пути.
В Керети тоже слышала отвальную коротушку. Ее пропел по моей просьбе промысловик, уже много лет на страду не выходивший. Он любил вспоминать далекое для него время молодости, полной сил и отваги, артельной работы, морских тягот, в воспоминаниях ставших такими притягательными.
Жизни нашей краше нет,
Как хочу, теперь гуляю,
На страду Мурманскую пойду,
дома все гуляночки оставлю.
«Кабыть так пели», — сказал он, довольный тем, что помнит все слова песенки.
В Беломорье широко гуляли не только перед тем как шли на промысел, но еще шире при возвращении с удачей. Справляли привальное. «Ходят друг к дружке на винну чарку. Выпьют, зачнут силой меряться, сперва на кулачки, а опосля и задерутся взаболь. Бывало, мы, жонки, водой их разливали, иной управы не найдешь».
Гуляли, но сроки выхода на промысел выдерживали, и сборы были не наспех. Всегда помнили, какие тяготы ждут на промысле. «На рыбу шли, яруса ставили, воду вылеживали (ждали воду, с которой пойдет рыба-К.Г.). Ветра беспокоят, волна, а ты терпи, выжидай рыбку-то». Трудно давалась рыбка. Вернется рыбак с моря на стан, обычно в погоду, когда лов невозможен, а у артели есть избушка-сараюшка, в ней теснота, духота, дымно, темно, только жирник горит. Все же можно согреться, кое-как обсушиться у камелька; ухи горячей похлебать удастся, рассказов послушать, иногда и выспаться — дощатая койка есть.
Труден был мурманский промысел, и труден вдвойне, когда помор шел не в артели односельчан, не на стародавних артельных началах, промышлял не на свой обиход, а нанимался к поморам-судовладельцам в работники-покрученники; такой помор шел не за прибылью, не за радостью, а от бездольица, от нужды горькой: не мог внести артельный пай. К тому же и задолжал он богатею-судовладельцу, надо расплачиваться трудом, отрабатывать долги. Жизнь покрученников вдали от дома в течение многих месяцев была самой настоящей кабалой. Изнурительный труд на хозяина, не обеспечивавшего даже примитивных условий жилья и питания, — вот что ожидало его. Пошел на покрут — в одну путину две жизни положил. Рассказывали в Поньгоме жены покрученников: «Осенесь пришли с мурманской страды, выжились там вовсе, худяшши, вызудило, выветрило их, руки-ноги тоснут (болят, ноют - К.Г.). Как на здоровье поставишь, а покрут-то опять ждет». Бесконечной была кабала, не рассчитаться с хозяином, долги опутывали помора-покрученника.
На зверобойном промысле работ и тягот еще больше. Нерпу били, утельгу (молодую самку) да белька норовили захватить, повадки их знали. Весь зверобойный период промысловики оставались на льду, жили в карбасах или под ними, укрывались буйном. Холод, сырость. «Вызябнешь, огонь не чуешь». да и не жарко палили костерок, дрова берегли. Что-то еще впереди ждет. Сухомес поперек горла становился, к концу промысла горячую пищу варить было уже не из чего, все приели. «Зверя норовили бить, как прижим зачнется. Не за
все это бывало, отдерет льды и понесет в голомя. Бывало, настрадаются, а то и не возвернутся».
Трудно на море, но оно кормило. Выходили по открытой воде на промысел тресочки, которой «ежели солоненькой не поешь, на работе не потянешь», промышляли сельдь, сигов-заледок (рыба, пришедшая к берегу после ледохода
-К.Г.), навагу, семгу, ну а мелочь та не в счет. Каждую рыбу ловили в свое, ей положенное время в районах ее подхода. Учитывали все это поморы, знатоки промысловых дел. Лучшую рыбу промышляли на Мурмане. Это крупная треска, палтус, зубатка. «За ними и страдаем», — сказал старый рыбак И.Дорофеев из Чуболы. Для сала и кожи промышляли белуху. «На Кандалухи губы ходили одна по другу караваном, сельдь их приманивала». Ловили белуху и в Онежском заливе, это почти дома.
Труд на море требовал от каждого помора не только физической силы, выносливости, закалки, сноровки, но и отличного знания морского дела, морского пути, навыков в промысле рыбы и зверя. И все это помор освоил. Еще далеко было до рождения формулы «человек и биосфера», а те, кто осваивал Беломорье, с первых шагов испытали на себе ее силу, на протяжении столетий, на опыте постигали ее тайны. Еще не ведая ни о какой экологии, которая в наше время признается одной из важнейших для прогресса ветвью биологической науки, поморы копили наблюдения за окружающим их миром, учитывали связи явлений и их взаимодействие и создали свою формулу: у моря и земли все в один узел связано, развязать не развяжешь, а не зевай, встревай, отличай, да и отвечай. Это как-то в беседе о поморских делах, о поморском житье-бытье сказал давний мой знакомый Алексей Михайлович Митькин, побывавший на всех морях Северного Ледовитого океана. Он работал и на лове рыбы, и гарпунером, и зверобоем, и наблюдателем на научных станциях. Научные экспедиции заманивали его в помощники.
Ни стужа, ни ветры, ни дальние пути не пугали помора. Познал он все повадки моря, своего кормильца. Опыт дедов, отцов и свой, воспринятый с малолетства, помогали ему на трудных путях-дорогах держаться «о пасно», осторожно, с опаской. Но в одиночку труд на море невозможен, поморы шли на промысел «обществом», и каждый друг другу был помощником, необходимость единства была подсказана и воспитана веками. «Как зачнет кто в артели на промысле идти на отличку, так по общему приговору лямками постегаем. Редко бывало, а бывало, иначе нельзя на таком деле». Общий труд определял сплоченность поморской семьи и деревенского коллектива, отсюда и забота о товарище: «...удачи тебе на все четыре ветра и все их подветерья». Отсюда и старинное обещание — клятва кормщика, главного на промысловом судне, руководителя промысла, отвечать за успех плавания, за всех идущих с ним. Он давал клятву отвечать «перед совестью своей, перед людьми, да на Страшном суде, коли погибнет кто». Отсюда и требования к кормщику: «должон он душу крепкую иметь, да и руку тоже».
Поморы ходили на промыслы не только в Белое и Баренцево моря, уже в ХУI веке шли они на запад за Кенрог и Нордкап, шли до Шпицбергена, ходили на Матку — Новую Землю, к устьям сибирских рек. Ходили на прочных поморских карбасах, на лодиях, а позже и на шняках. Не имел помор ни карт, ни описи берегов, да и берега были пустынны, не светили маяки, не подмигивали «мигалки», не предупреждали об опасностях ревуны и колокола. Поморы ходили «по своей вере» — по своим рукописным лоциям, замечали природные приметные места, взглавия (мыс, оконечность острова - К.Г.), кекуры (отвесные скалы - К.Г.), а решник (мелкий округлый камень - К.Г.), мошок, ставили свои глядени и отметины: кресты, гурии (пирамиды из камней - К.Г.), юрики (места у крутого берега для ловли и сушки рыбы - К.Г.), вехи и оберегали все эти «памяти», знали их цену для мореходца и промысловика. Не поднимали на них руку ребята. Вот с кого туристам следовало бы брать пример.
Дети поморов рано осваиваются с морем. Летом 1952 года мы работали в южном районе Онежских шхер. На нашей экспедиционной шлюпке гребцом был плечистый подросток Володя Попов из Колежмы, было ему только тринадцать лет. Он знал в районе каждый камень, отлично греб парой, ловко управлялся с парусом, ухаживал за шлюпкой, чувствовал себя хозяином, старшим на нашем судне, покрикивал на рулевого, обычно им была пишущая эти строки: «Куды опять повела, держи прям, на каменья прешь». Слушала я внимательно указания опытного практика. Многое можно было узнать от него и о районе.
Через два года наша экспедиция была направлена в Кандалакшский залив, опорный пункт находился на острове Великом. Однажды к стоянке подошел карбасок под каким-то самодельным парусом. К нашему общему удивлению, на нем было только два мореплавателя: на руле мальчишечка лет семи, а второй, гребец,— парнишка постарше, но и ему было не более двенадцати. На наши вопросы, откуда и куда идут, старший солидно и кратко ответил: «Из Ковды, в Бабье, треску ловить. Мать послала, воду переживаем». На вопрос: «Как это вы одни, без старших, ушли так далеко, не боитесь?» старший моряк коротко и выразительно ответил: «Но!?». Не обращая на нас внимания, оба занялись своим паруском. дождавшись «живой» воды, отчалили и на нас, «научников-бездельников», не обернулись. Поморские ребята на море, на судне всегда держались серьезно, не хвалились удалью, дело делали. Наверное, помнили дедовы наставления: море смешков не любит.
Если и баловались, то только на берегу, у кромки воды, а если и отплывут чуть подальше, то сами соображают: скорее надо обратно, вода студеная. Знали ребята: «враз ноги-то скорючит, укурнешь и не выстанешь». Пловцов хороших в Беломорье было мало, вода не позволяла, прогревается она и летом только в поверхностном слое. (Поэтому всеобщее удивление вызывали там первые работы аквалангистов, особенно женщин; подводные работы мы начали в Соловецком районе в 1961 году, обследуя донную растительность).
Суровое трудовое воспитание получали поморские ребята, стоило бы
нынешним взрослым оглянуться на то, как в Беломорье отцы и матери выводили в люди своих сыновей и дочерей. Мужественных, цельных, непреклонных, твердых характером людей воспитывали.
Примечания:
1.
Из книги Ксения Гемп. Сказ о Беломорье. Архангельск, Сев.-зап. книжное изд-во, 1983 г.
2. Пояснение слов - из Словаря в той же книге.
3.
Разбивка на разделы - моя -. М.З.
Коротко об авторе:
ГЕМП Ксения Петровна
(1894-1998), биолог, историк, этнограф, краевед; почетный гражданин города Архангельска ; автор многочисленных трудов по истории и культуре Русского Севера. Выпускница Архангельской Мариинской женской гимназии (1912) и Высших женских (Бестужевских) курсов (1917).
ИЗ «ПОМОРСКОГО НАКАЗА».
МОРЕ НАШЕ БЕЛОЕ . (Из Поморских речений).
 Разлюбезное море наше! На простор океанский выведет, на широкий дальний путь. На восток, на запад и на ночь путь-дорога открыта. А там, смотришь, и до летних теплых морей доведет. И обратный путь не закажет. Испытаны все эти пути.
Разлюбезное море наше! На простор океанский выведет, на широкий дальний путь. На восток, на запад и на ночь путь-дорога открыта. А там, смотришь, и до летних теплых морей доведет. И обратный путь не закажет. Испытаны все эти пути.
Распрекрасное, лучше тебя нет. И в тишинке, и в бунте оно - любование. Берега разные, красивые, в нашей Кандалухе особо. Шхеры у Карельского - чего-чего нет: кекуры высокие, остров-ки и малые, и побольше, и каменистые, и лесистые.
Море для помора и друг, и помощник, и вражина. Как знаешь его - вражду его тоже помор может на пользу оборотить. Под па-русом с поветрием добежишь быстрехонько. Свой парус надо знать хорошо и направление ветра определить точно. Помор с детства с морем знакомится, познает его, дружит с морем.
Без моря помору не жить - затоскует, загуляет, удержу ничто не дает.
Морем живем - всё сказано этими словами. У моря, на мор-ских бережках поселяемся. На его морских просторах трудимся, оно нас кормит. Морюшко - любование наше. Ему, батюшке, песни поем. Море распрекрасное, вовсе тебя забывать стали. Мо-рюшко и в ласке и в сердце - всё нам распрекрасное.
Батюшко родной, море Белое. Все повадки, сноровки его из-вестны. Живут поморы с ним в согласии, по-семейному, на его порядки, повадки отвечают по своему разумению, опыту. Борют-ся с ним, не покорствуют. Своенравно оно, но и помор не прост, всего повидал.
Неоглядно наше Белое. Отойдешь к северу от Соловков, и нет тебе ни берегов, ни островов, как из Горла выйдешь. Ширь морская. Кажется, нет тебе конца-краю. А всё же из воронки выйдешь - море другое навстречу. Повадки у него не беломор-ские: волна не та, цвет воды другой, да и горчат воды его, ржав-чину они при посоле на рыбу кладут. Ветры над ним другие гуля-ют. Дыхание его потому не то.
Кажется море неоглядным, а и у него концы есть.
Кормилец наш, морюшко Белое. Уважение ему всех жителей Беломорья. Всех поморов кормит промыслом. Без моря ране было не жить. Теперь сыны и дочери поморские к городу больше тянутся. Жизнь, говорят, в городе интересней, заработок больше, весело там. Старые от моря не уйдут.
Баренцево море - оно посурьезнее Белого-то будет. А мы не оплошали. Довольно-таки беспокойное море, а богатое, доход-ное. - Да, большу-то рыбу на Баренце берем. Поклон ему. - Тру-да поморского много взяло это море. Памятное.
И Море на Земле живет, то у него есть и Донышко - это его твердь основная, и Бережка. И у каждого Морюшка они свои, на-особицу. По ним и определись ране, в како море пришли. И запи-си вели в Книги - Лоции. Наша Лоция - закон помору.
Море живет на Земле, за ей держится. А мы, поморы, по Мо-рю живем. У его закон твердый, человеку его не изменить.
Без Моря - Морюшка поморам не жить. Вся наша жизнь тут, в ём - и радости, и горюшко.
НАШ СЕВЕР В ОПИСАНИИ ИНОСТРАНЦА XVI ВЕКА.
(Журнал «Известия Архангельскаго общества изучения Русскаго Севера», №1 за 1911г.).
В очень редком издании 1581 года на латинском языке «Описание Европейской Сарматии , которая заключает в себе королевство Польское, Литву, Самогитию, Руссию (Russiam), Мазовию, Пруссию, Померанию, Ливонию, частью Московию и Татарию» Александра Guagninus`a, посвященном автором, «светлейшему и могущественнейшему» королю Стефану Баторию, встречается несколько страниц, заключающих в себе описание Севера России в XVI веке.
Не зная этой книги в русском переводе и не зная, имеется ли она в таком издании, мы хотим предложить выдержки из незначительной части «Описания Сарматии», посвященной нашему краю.
Переводчикъ.
Провинция Карелия.
 Провинция эта имеет свой язык, расположена к северу от Новгорода, отстоит от него в 60 польских милях; жители ея платят дань Московскому князю и шведскому королю, по причине соседства с тем и другим. Границы этой провинции простираются до Ледовитого океана. Остров Соловецкий расположенный к северу, между Двинскою провинциею и Корелиею, на море, в восьми польских милях от материка, находится в подданстве Московского князя.
Провинция эта имеет свой язык, расположена к северу от Новгорода, отстоит от него в 60 польских милях; жители ея платят дань Московскому князю и шведскому королю, по причине соседства с тем и другим. Границы этой провинции простираются до Ледовитого океана. Остров Соловецкий расположенный к северу, между Двинскою провинциею и Корелиею, на море, в восьми польских милях от материка, находится в подданстве Московского князя.
Там есть знаменитый русский монастырь, вход в который женщинам воспрещается под страхом тяжкаго наказания. Там вываривается в большом количестве соль. Говорят, что там солнце во время летняго солнцестояния светит непрерывно (круглые сутки), кроме 2-х только часов.
Провинция Двинская.
Провинция эта расположена на самом Севере, была некогда под властью Новгорода, получила название от протекающей здесь реки Двины. Река сама получила название - Двины от соединения двух рек - Юга и Сухоны. Ибо Двина у русских обозначает «двойную» реку. Река эта, после слияния Юга и Сухоны, получив имя Двины, пройдя 100 миль, впадает шестью устьями в Северный океан, который омывает Швецию и Норвегию. От Московии до устья ея считают 300 польских миль.
Провинция эта, хотя и простирается миль на 100, не имеет, однако, совершенно городов и крепостей, кроме крепости Холмогоръ и города Двины (et Dvinam civitatem)*, который расположен посредине страны (и тоже крепость), а также Пинеги, основанной в самих устоях Двины (sic!).
Изобилуетъ, впрочем, очень многими деревнями, которые вследствие неплодородия земли, на большом протяжении далеко и широко отстоят друг от друга.
Жители питаются всякого рода рыбами и зверьми, одеваются в шкуры, потребление же хлеба им совсем неизвестно. На приморских местах этой страны находятся по большой части белые медведи, живущие в море, шкурами которых вместе с шкурами других разного вида животных, жители платят Великому Князю дань. Таким образом, они (шкуры) большею частью отвозятся въ Московию.
Сама страна вся богата солью, и из нея жители окрестныхъ стран обыкновенно получают соль.
Устюжский край.
Вологодская провинция.
Печорский край.
Вятский край.
Пермский край.
Лоппский край (Лапландия).
АНГЛИЧАНИН О РУССКОМЪ СЕВЕРЕ.
(Журнал «Известия Архангельскаго общества изучения Русскаго Севера», №6 1913 г.).
Очерки представляют перевод с английского книги: «Undiscovered Russia», автор ее англичанин Stephem Graham, горячо интересуясь русским народом, провел в России несколько лет, путешествуя часто пешком по различным уголкам нашей родины. Результатом его наблюдений явилось несколько книг о России.
« Undiscovered Russia », отдельные главы из которой ниже печатаются, содержат в себе личные впечатления автора, вынесенные им из путешествия по Северу России летом 1910 года.
Белая ночь в России.
Я приехалъ съ далекаго юга до Крайняго Севера царской Империи. Через степи добрался до пораженнаго холерой Ростова-на-Дону, оттуда по возвышенностям страны донских казаковъ черезъ Малороссию направился къ Воронежу и Москве. Солнце уже палило равнины, когда я покинул югъ, но в Москве было так холодно, что прислуга открытыхъ ресторановъ одевала пальто поверх костюмовъ. Когда я проезжал по северным губерниямъ, мне показалось, что я расстался с летомъ, и вновь вернулась весна.
Я прибылъ в страну, где в течение 2 месяцев въ году стоитъ непрерывный день, и въ течение 2 месяцевъ тянется бесконечная ночь.
Архангельскъ - красивый городъ, вытянувшийся на 7 верстъ въ длину, со множеством церквей, на золоченыхъ куполахъ которыхъ играет солнце. Дома и тротуары сделаны изъ сосновых бревен, не крашенныхъ и грубо обделанныхъ. На Набережной кипит жизнь; грузятъ лесъ, выгружаютъ рыбу, на деревянныхъ пристаняхъ женщины моют треску; въ ярко красных платьяхъ, мерно ударяя веслами плывутъ изъ деревень, расположенныхъ по ту сторону реки, девушки. На рынке около сотни лавчонокъ, толкутся норвежцы, шотландцы, а на прилавках лежат такие странные товары, какъ пирогъ съ треской, посуда из березовой коры, трубки из рыбьей кости, изображение святыхъ, тряпье для бедных богомольцев.
Свистятъ безпрестанно пассажирские пароходы, буксиры тащат целые острова сосновых бревен вверхъ и внизъ по реке.
Пристани, особенно Соловецкая кишат паломниками, разыскивающими суда, идущие в Соловецкий монастырь, считаемый святым местом.
Многие из богомольцев пришли пешком 1000 верст или около того, пользуясь по дороге гостеприимством жителей, так как большинство идетъ, часто не имея копейки в кармане.
Я взошел на направляющийся вниз пароход и увидалъ огромное паломническое судно, принадлежащее монастырю. Вся команда этого парохода состояла изъ одних монаховъ. Длинноволосые, в синих старомодных подрясниках, они представляли живописную картину.
В толпе паломников или «богомольцев», как их называют русские, я вошел в приречный трактиръ, содержимый одной доброй старой женщиной, посетители которого принадлежали более к классу бедняков, чем людей достаточныхъ. Все заведение состояло из небольшой общей столовой и двухъ или трехъ маленькихъ комнатъ. Человекх 12, пожалуй, могло бы разместиться одновременно за столиками, конечно не претендуя на комфортъ. Сюда собирались по преимуществу моряки и богомольцы.
Снаружи на омытой дождями голубой, как стараго матроса, вывеске красовалась надпись: «Чайная»; для тех же, кто не умелъ читать, были живописно нарисованы чайникъ, чашка, стаканы, булки, баранки и рыба.
В чайной можно было получить за копейку стаканъ чаю съ прибавкой пол-кусочка сахару, за две-три копейки соленыхъ огурцов, завернутых в листок старых газет, молока и сухарей, неказистыхъ на видъ, но довольно вкусныхъ.
Архангельскъ - таинственный городъ; это почти незащиненный порт, переполненный судами всехъ национальностей. Чувствуешь, что находишься, употребляя детское выражение, «на верхушке Европы». Небо кажется здесь ниже, чем где бы то ни было. Это широкое небо, по-видимому, никогда не бывает чистым более как наполовину. На немъ залегли причудливые маленькие облачка, похожие на овецъ или коровъ съ длинными туловищами.
Белая ночь действительность. Въ полночь такъ -же светло, как и в 11 часов, в часъ ночи можно читать с такой же легкостью, как и в часъ пополудни. Я сел на скамейку около домика Петра Великаго и посмотрелъ на солнце. Какъ диск оно стояло острым краем на поверхности Белаго моря, и его лучи разбегались вверх, не то еще закатные, не то уже предрассветные, а по очарованной реке, дрожа и колеблясь, ползли багровые полосы. Далеко на западе, среди сосен, светлая белая стена церкви неясно и бледно. Странная тайна чудилась в ночи, кроткая, нежная, чудесная. Облокотившись на колени, с опущенной меж рук головой сидела природа и грезила. Человек чувствовал себя в царстве мира и покоя, как будто бы в глубине священной тайны. «Святая Русь», словно свет видения, охватывающий, преобразующий темноту, горелъ перед глазами, свет множества ореолов, сновидение наяву…
Я дышал легко и отдавалъ свое сердце России. Она женщина. За ея глазами - сосновые леса и непроницаемая темнота, в руке она держит цветы. Она - мать народовъ, священное существо, которое сидит дома и молится въ то время, какъ мы, более мирские, уходимъ изъ дому въ день.
«Какъ вы почувствовали Россию?» - спросилъ меня новый друг Василий Васильевич, встретившийся со мной на следующий день. «Не отвечайте: «хороша», «дурна», или «интересна». Вы понимаете, что я подразумеваю». Я нашелъ ее старой, благоухающей, печальной, подобной черной земле» - ответил я.
Деревенский меховщик.
Первым селением, съ которым мне пришлось познакомиться въ Архангельской губернии, была Бобровая гора. Это куча изб, расположенных на глинистом обрыве над Северной Двиной.
Я нанял квартиру в доме меховщика. Две белыя медвежьи шкуры висели на веревках, протянутых там, где долженъ быть садъ, а у передних дверей в клетке, сделанной из свиного хлева сиделъ огромный коричневый орелъ, случайно попавший в руки мужика. Такъ как русские не гонятся за чистотой, я ожидал встретить очень грязное помещение, но, к своему большому удивлению, я очутился в хорошо содержанной, опрятной спальне с чистым полом и стенами; в стороне стояла высокая кровать на четырех ножках, очень похожая на английскую, на ней лежала перина, белые подушки и сшитое изъ лоскутков ватное одеяло. Я был уверен, что насекомых здесь не найду, так как все они были уничтожены нафталином.
В комнате было множество разнообразных вещей, большей частью набитых чучелъ птиц, вырезанных изъ дерева игрушек, иконъ. Со стены глядели 15 старинных иконъ, частью нарисованных на дереве, частью гравированных на металле. Рядом с дверью, ведущей ко мне, находилась кухня с большой открытой печью; здесь же на разложенном на полу матраце спала служанка Наташа.
На чердаке надо мной было навалено сено и солома, сложены семужьи сети, ружья; на протянутых от стены к стене веревках были развешаны для проветривания звериные шкуры - медвежьи, волчьи, нерпичьи. На кровати, устроенной наподобие громадной конуры с крышей и заложенной со всех сторон сеном или соломой, спал хозяин с женой; чтоб выползти из нее, сбоку было сделано небольшое отверстие вроде прохода в нору или берлогу дикаго зверя. Хозяева очень любили эту кровать потому, что они были защищены от укусов комаров.
Меня приняли очень сердечно, и хозяйка предложила мне похлебки молока и рыбы изжаренной так хорошо, как только хозяйка умела. Григорий ее муж работал наверху, выскабливая тупым ножом мяздру кожъ или топча ногами чистый мех въ бочонке с опилками.
Я любил подолгу наблюдать за работой хозяина и его молодой служанки. Особенно интересным представлялось мне смотреть, как Григорий, стоя в бочке, топталъ своими огромными сапожищами дорогую черную медвежью шкуру. Он уверял меня, что медвежья шкура от подобного обращения не терпела никакого вреда.
Здесь также и продавали меха. Медвежью шкуру можно было достать за суверенъ или 30 шиллинговъ, хотя за лучшую брали 4 или 5 фунтов стерлинговъ, нерпичьи кожи продавались за 2, 3 или 4 шилл., волчьи шкуры от 10 шил. до фунта. За 2 фунта можно сшить верхнюю одежду из хорошего оленьего меха. В каждой избе в Боброве есть корова, как вообще во всех селениях Северной Двины.
Каждое утро Григорий убивал ворону и бросал ее орлу. Я удивился, почему он не стреляет голубей, которых было гораздо больше и которых было легче застрелить, но оказалось, что голубь священная птица.
«Орел ест только сырое мясо» - сказал мужик, тыкая птицу палкой.
«Что вы даете ему пить?» - заинтересовался я.
Крестьянин усмехнулся хитро и ответил: «Он пьет только кровь».
Однажды, в мое отсутствие, пришел посетитель, купилъ птицу за два рубля и выпустил ее на волю.
«Как это было?» - спросил я.
«О, хороший охотник, барин, но я не знаю, почему он отпустил ее».
«Он выпустил ее потому, что орел могучая, прекрасная благородная птица. И вы бы сами должны были сделать то же самое», - сказал я. «Если б это должностное лицо, оно приказало бы вам отпустить орла на волю и ничего не заплатило бы вам. Почему? Да потому, что это было бы позором для русскаго флага - орелъ в свином хлеву и медвежья шкура на веревке!».
ТЕРСКИЙ БЕРЕГЪ.
(Журнал «Известия Архангельскаго общества изучения Русскаго Севера», №1 за 1914 г.).
Еще в 17 веке одинъ из Новгородских князей договаривался съ Господином Великим Новгородомъ о томъ, чтобы ему, князю, лично владеть областью Терскаго берега. Затем владели краем бояре новгородские (Марфа Борецкая), а позже их московские (Троице-Сергиевъ и Новоспасский - «Спасъ на Новомъ») и наши северные (Соловецкий, Антониево-Сийский, Николаевско-Карельский и Кирилловъ-Белозерский) монастыри и, наконецъ, сами святейшие патриархи «Московские и всея Руси» - имели здесь свои вотчины.
Широко известный в прежнее время, онъ теперь забытъ и Богомъ и людьми… И въ тиши этого забытья идетъ теперь «всеконечное разорение» Терскаго берега. Какъ будто его кто-то, власть имущий, выражаясь древне-русским юридическим термином «отдалъ на потокъ и разграбление». Или, по крайней мере, равнодушно-бесстрастнымъ окомъ «зритъ» на это разорение. Край когда-то богатый - теперь почти конченный край… Он медленно гибнетъ и, что всего печальнее - нет надежды на будущее.
Издавна славился Терский берег двумя дарами своей суровой печальной природы - семгой , которая в до-Петровской Руси и къ царскому и патриаршему столу и - жемчугомъ . А теперь, кажется, недалекъ уже тотъ день, когда над обоими этими исконными богатствами Терскаго берега съ грустью придется поставить кресть. И вот почему.
Для Терскаго берега главное значение имеет, именно, хищничество. Что результат хищничества - уменьшение семги на Терскам береге есть налицо…
Другой указанный нами, даръ природы Терскаго берега - жемчугъ тоже, можно думать, в конце-концовъ совершенно выйдет, будет истребленъ, если только не принять меры к его охране.
Ловля жемчуга является для местнаго населения хорошим подсобным заработком, особенно если цены на жемчуг стоятъ высокие, напр. летом минувшего 1913 года жители с. Варзуги, которые одни только и занимаются здесь этим промыслом, выручили отъ его продажи 10-12 тысячъ рублей. Легкость и выгодность промысла повели к тому, что, ловлей жемчуга занимается всякий, кому не лень, и это обилие промышленников опять-таки сказалось на объекте промысла, именно - число жемчужных раковинъ сократилось.
Въ р. Варзуге хорошего жемчуга не осталось (во всяком случае трудно найти), и более предприимчивые крестьяне переносят свою деятельность на другие реки, как напр.. р. Муна - приток р. Умбы, р. Кица - приток р. Варзуги и др.; а один рьяный жемчужник в своих поисках жемчуга «обыскалъ» - обошел все реки Беломорскаго побережья полуострова вплоть до вершины Кандалакшской губы..
Минувшим летом произведено было даже специальное исследование «на жемчуг» реки Поноя, но жемчуга в Поное не оказалось.
Остановимся еще на лесном хозяйстве Терскаго берега. Впрочем, сказать по правде, никакого леснаго хозяйства здесь нет.
Надо заметить, что лесом, особенно хорошим, годным для промышленности, Терский берег вообще не богат, чем и объясняется то, что здесь до сих пор не было лесных заготовок на заводы, хотя заводские «соглядатаи» уже дважды приходили вверх по р. Варзуге, но годнаго леса не нашли. Однако, и то, что есть - усердно истребляется безъ всякаго, даже грошеваго, дохода для казны и, само собой понятно, без всякаго разрешения со стороны надлежащихъ властей. Сколько идет молодого леса в связи съ семужьим промысломъ, не поддается и самому приблизительному подсчету. Вырубают тысячами, быть может, даже десятками тысячъ колья, просто обрубается хвоя, десятками тысячъ рубится вичье для поплавков и молодые деревца почти въ вершок въ отрубъ - по местному хлысты, употребляемые для якорей и сетокъ вместо веревокъ, по несколько сотъ на одинъ рыболовный участокъ (сколько же, спрашивается, надо этого вичья на всехъ промышленников?)
Насколько вообще не стесняются здесь с разрешениями на прорубку леса показываютъ, напр., такие факты, что, взявъ билетъ на сто бревенъ, вырубаютъ двести, по одному билету рубят несколько разъ и даже строятъ целыя морские суда без всяких билетовъ…
Ежегодно случаются лесные пожары, когда лесъ выгорает на десятки верстъ…
Результаты такаго лесохищничества получаются опять-таки довольно плачевные… Старожилы кузоменские еще помнятъ, как 40-50 летъ назадъ у самого села торчали пни - остатки бывшаго здесь леса. Теперь же от села до леса надо идти четыре версты…
Для полноты картины Терскаго «разорения» укажем еще на местныя «культурныя удобства». Прежде всего, полное бездорожье - предоставляетъ желающим на выборъ или съ опасностью для жизни ехать въ утлыхъ карбаскахъ по открытому морю или идти ad pedes apostollorum, по морскому берегу; въ с. Варзуге нет даже земской станции. Врачебная помощь почти отсутствуетъ, такъ какъ на весь Терский берег отъ Умбы до Поноя (около 400 верстъ) есть всего один фельдшеръ и акушерка въ с. Кузомени, а своего доктора, несмотря на более чемъ десятилетнее существование в с. Кузомени вакансии врача, здесь такъ и не видывали. Отсутствуетъ также и ветеринарная помощь.
А олени (езда на оленях - единственный и наиболее доступный всему населению способъ передвижения въ зимнее время) - мрутъ… на что, впрочем, уже не раз указывалось в местной печати.
Есть и другие прелести местной жизни, но всего не рассказать, есть и такие факты о которыхъ «страха ради иудейска» лучше говорить не в местной печати, а где-нибудь подальше, где у корреспондента больше известнаго рода гарантий.
(Ан. Поповъ).
БЕРЕГА ЛЕТНИЙ И ОНЕЖСКИЙ (из книги С.В.Максимова «Год на Севере»)
Прощанье с Архангельском и выезд оттуда. - Первые впечатления моря. - Заблудившаяся стерлядь. - Солза. - Посад Ненокса; соляные варницы; беломорская соль и способы ее добывания. - Уна и Унские Рога с Пертоминским монастырем и преданиями о Петре Великом. - Селения по Летнему и Онежскому берегам.
Прощанье с Архангельском и выезд оттуда.
 Архангельский май 1856 года против ожидания оказался совершенно весенним месяцем, хотя, конечно, в своем роде: быстро зеленела трава, промытая вешней водой, быстро пробирались ручьи с гор в овраги и низменности. Скоро затем посинел речной лед, образовались полыньи, желтые окраины; расплылась всюду мягкая, глубокая грязь. Ветер наносил весеннюю свежесть, чаще хмурилось небо дождевыми тучами. Утренники приходили к концу, постепенно утрачивая силу своего холода: все, одним словом, обещало скорый ледоплав и возможность пуститься в море. Вот два дня беспрерывно лил дождь мелкий и частый, столько же времени крепились сильные порывистые ветры, и широкая, глубокая Северная Двина, надтреснувшись во многих местах и густо почерневшая на всем своем видимом Архангельску пространстве, наполнилась почти до краев - и начала вскрываться.
Архангельский май 1856 года против ожидания оказался совершенно весенним месяцем, хотя, конечно, в своем роде: быстро зеленела трава, промытая вешней водой, быстро пробирались ручьи с гор в овраги и низменности. Скоро затем посинел речной лед, образовались полыньи, желтые окраины; расплылась всюду мягкая, глубокая грязь. Ветер наносил весеннюю свежесть, чаще хмурилось небо дождевыми тучами. Утренники приходили к концу, постепенно утрачивая силу своего холода: все, одним словом, обещало скорый ледоплав и возможность пуститься в море. Вот два дня беспрерывно лил дождь мелкий и частый, столько же времени крепились сильные порывистые ветры, и широкая, глубокая Северная Двина, надтреснувшись во многих местах и густо почерневшая на всем своем видимом Архангельску пространстве, наполнилась почти до краев - и начала вскрываться.
Огромными кусками иногда захватывающими больше половины реки, понеслась масса льду по направлению к морю. Раз остановилась она, спертая своим множеством, в узком Березовском рукаве реки, и залила водою Соломбальское портовое селение до нижних этажей его лачужек. Сутки стояла вода в селении, потешая добродушных обитателей карнавальскими играми в карбасах и лодках. Сутки же держался спершийся в устье лед, противясь напору новых кусков, наносимых горными ветрами. Наконец лед прорвало и вся его масса прошла в Белое море, где придется ему или быть растертым в мелкие куски (шугу) морскими торосами, или растаять в массе морской воды и не дойти таким образом даже до Горла моря. Для города наступило время мутни́цы - той грязной, желтой, густой воды, которая, по крайней негодности к употреблению, запасливыми хозяевами заменяется водою, заготовленной раньше ледоплава.
Кончилась и мутница. Выжидалось появление грязно-чёрного льда из реки Пинеги. Провалил и этот лед, сопровождаемый густою грязною пеной, успевши, по несчастью, разломать несколько барок с зерновым хлебом (по туземному - с сыпью ). Наступил июнь: городские деревья усыпались свежим, мягким листом; повсюдная зелень била в глаза, солнце светило весело, грело своей благодетельной теплотою и заметно обсушало весеннюю грязь. Двина уже успела войти в свои берега и кое-где просвечивала даже песком у берегов. Стали ходить положительные слухи, что и море очистилось. Местное население высыпало в городской сад, приучаясь отдыхать под обаянием обновленной и просветлевшей природы... И город Архангельск красовался уже позади меня, весь сбившийся ближе к реке, по которой колыхался почтовый карбас, обязанный доставить меня на первую станцию по онежскому тракту, откуда, как говорили, повезут уже в телеге и на лошадях, и дадут наглазный случай убедиться в истине присловья, что "во всей Онеге нет телеги" и достаточной вероятности факта, что там в былые времена "летом воеводу на санях по городу возили, на рогах онучи сушили".
Вправо передо мною, из-за зелени побережной ветлы, красиво серебрился шпиц и отливал золотом крест, венчавший деревянную церковь Кег -острова . Прямо тянулась река со своей непроглядной далью, в которой хранилось для меня на тот раз все неизвестное, все, что так сильно волнует и неудержимо влечет к себе. Влево тянулся обрывистый черный берег тундры, за ней выглядывал лес, а из-за него еще какое-то село, еще какая-то деревушка, и опять та же Двина, ушедшая также в непроглядную даль. Ветерок веял прохладой: гребцы мои наладили парус, убрали весла, запели песню и разводили ее беззаботно - весело разносисто - громко.
Я обернулся на Архангельск не с тем, чтобы глубоко вздохнув, пожалеть о разлуке с ним на четыре месяца, но чтобы просто посмотреть, так ли же хорош он на своей реке, как, например, все города приволжские. При поверке и дальнейших соображениях, оказалось тоже, что и ландшафт Архангельска может увлечь художника своей оригинальностью и картинным местоположением. Правда, что и здесь нашлось много черт общих со всеми другими городами: так же церкви занимали переднюю и большую часть плана; так же церкви эти разнообразны были по своей архитектуре; так же белый цвет, сменяясь желтым, резче оттенял зелень садов и палисадников; так же, наконец, низенький новенький деревянный домик стоял рядом с большим двухэтажным каменным. На этот раз разница состоит в том, что вся эта группа городских строений тянется на трехверстном пространстве, замкнутом с правой стороны монастырем Архангельским, слева - собором Соломбалы. В середине красиво разнообразят весь ландшафт развалины так называемого немецкого двора, не разломанного до сих пор за невозможностью пробить скипевшуюся известь, связующую крепкие окаменелые до гранитного свойства кирпичи новгородского дела. Но все это уходит постепенно вдаль и заволакивается туманом.
Первые впечатления моря.
Архангельск скрылся за Кег -островским мысом с одной стороны и тундристым печального вида берегом, с другой. Потянулись берега справа и слева, кое-где лесистые кое-где пустынные. Повсюдное безлюдье: ни человека, ни лошади не видать нигде. Выглянет из-за противоположного мыса еще село, раскинется деревня, но и там почти то же безлюдье и та же тишина, которая для нас нарушается только шумом воды на носу карбаса, да раз только людским говором и криком с попутной соловецкой лодьи, обронившей паруса. Ветер тих; плыли греблей: шумела вода под веслами...
Вот и все. Немного и дальше: в станционной избе, называемой Рикосихой , слепили, глаза и не давали покоя мириады комаров, которые обсыпают в течение всего лета при6режья рек, озер и архангельского моря. То же самое ожидало (и действительно встретило) и на следующей станции в Таборах . Невыносимо била в грудь и в спину избитая колеями и выломанная временем и употреблением гать, служащая дорогой: постукивали по ней колеса, привскакивали на своих местах и седок, и ямщик, с трудом собирая дыхание, заматывались, по обыкновению, лошади хохлатые, разбитые ногами, сытно не накормленные, порядочно не выезженные. Те же удовольствия предстояли и на следующей станции и так далее - может быть, вплоть до самого города Онеги. К тому же, ничто не развлекало внимания; пустынность и неприветливость видов поразительно сильно развивали тоску и апатию. Казалось, и нет конца этим мучениям: казалось, и не выдержать всех их...
Ну вот, твоя милость, все ты пытал спрашивать: где море, где море? На, вон тебе и море!
Ямщик показал кнутовищем в дальнюю сторону расстилавшегося впереди нас небосклона. Первый раз в жизни приводилось мне видеть море, быть подле него. Я спешил посмотреть по направлению руки ямщика, но на первый раз увидел немногое: тускло и неприветливо глядело по обыкновению серенькое архангельское небо, и хотя на нем на этот раз во всей своей яркости сияло летнее солнце, то солнце, которое в описываемую пору скрывалось под горизонтом на какие-нибудь два-три часа, тем не менее близость моря почти была несомненна. В воздухе чувствовалась та свежая, заметно, крепкая, но приятная прохлада, которая несколько (но довольно слабо) может напоминать ощущения человека, вдруг вышедшего из густого смолистого леса в жаркую летнюю пору на берег большого болотистого, озера.
Резкий, довольно свежий ветерок, морянка , время от времени (духами - как говорят здесь) начинал веять в лицо и даже заметно разгонял мириады комаров, охотно кучившихся в лесной духоте. Но моря я еще не видал. Белесоватая, широкая полоса, плотно слившаяся с небосклоном, могла, впрочем, казаться дальним краем морской воды, и это не подлежало уже ни малейшему сомнению с той поры, как на этой белесоватой полосе далеко впереди показался беленький парусок, словно вонзенный в небо. Ближняя часть моря еще закрыта была от нас соседним перелеском: виднелся только парусок, полоса на горизонте и - только. Ближе к нам все-таки продолжали еще тянуться длинные, густые ряды невысоких, плотно стоявших одна от другой с осени елей, вперемежку с необъятно-густыми, приземистыми широкими кустами можжевельника. Ниже по земле у самой окраины дороги начиналось и тянулось в лесную даль, через кочки и мшины, бесчисленное множество красных кустов желтой морошки, находившейся, на этот раз, в полном цвету, и зеленели кусты цепкой вороницы, всегда разбрасывающей свои длинные ветви по голым и сухим местам, каковы здешние камни и надводные луды. Влево от нас, неоглядно вдаль краснело топкое болото, вплотную почти усыпанное той же морошкой и той же вороницей, кое-где со сверкающими на солнце лужами (радами, сурадками, подрядьем - по-здешнему, пугами - по-мезенски); кое-где по ним успели уже уцепиться мшины и даже объявилась чахлая лесная поросль.
Между тем мы спускались под гору; лес прекратился, и море во всей своей неоглядной ширине лежало перед нами, сверкающее от солнца, пустынное, безбрежное, на этот раз гладкое, как стекло. Сливаясь вдали с горизонтом, оно обозначилось в этом месте густо- черной, но узкой полосой, как бы свидетельствовавшей о том, что дальше ее глаз человеческий проникнуть уже не может. Невозмутимая тишина по всей этой светлой поверхности, не осмысленная ни единым знакомым признаком жизни, производила какое-то неисходное, тяжелое впечатление, еще более усилившееся криком чаек. Они то поднимались, то опускались на огромный камень, красневший далеко от берега.
Страшил на ту пору и этот лес, который мрачно потянулся вперед и назад по берегу, и эта пустынность и одиночество вдали от селений, вдали от людей, обок с громадною массой воды и дикою, девственной природою. Сосредоточенное молчание ямщика еще более усиливало безвыходность положения. Визг чаек начинал становиться едва выносимым.
Спустившись под гору, мы подъехали почти к самой воде, направляясь по гладко обмытому, как бы укатанному еще мокрому песку. Чуть не на колеса телеги начали плескаться волны, которые с шумом отпрядывали назад, подсекаясь на возвратном пути другими, новыми. Я заговорил с ямщиком:
Что же, у вас дорога-то тут и идет подле самой воды?
Дорога горой пошла. Да, вишь, теперь куйпога а по ней ехать завсегда выгодней: и кони не заматываются, и твоей милости не обидно. Горой -то, мотри, всего бы обломало.
Своеобразная речь ямщика не казалась мне уже непонятною. Видимо, ехали мы подле морской воды в тот период ее состояния, когда отлив унес ее вдаль от берега (в голóмя), и продолжалось еще то время, когда полая (прибылая) вода не неслась еще приливом к берегу. Через 6, может быть, даже через 5 - 4 часа, то место, по которому мы едем, на аршин покроется водой. Давно также известно мне было, что для приморского жителя все виды местностей делятся только на два рода: море и гору , и горой называет он высокий морской берег, и все, что дальше от моря, хотя бы тут не было не только горы, но даже и какого-либо признака холма, пригорка.
Вероятно, поощренный моим вопросом, ямщик обратился ко мне со своим замечанием. Растопыривши свою пятерню против ветра, к стороне моря, он говорил:
Ведь оно у нас так-то никогда не живет, чтобы покойно стояло, как в ведре бы, примерно, али в кадке: все зыбит, все шевелится, все этот колышень в нем ходит, как вот и теперь бы взять. Нет ему так-то ни днем, ни ночью покою: из веков уж знать такое, с той самой поры, как Господь его Бог в нашей сторонушке пролиял...
А вот по осени у нас падут ветра, - ай, как оно разгуляется! Взводнишшо (волнение) такой распустит, что, без нужды-то большой и не суются.
И вот гляди, твоя милость! - Продолжал он все тем же поучительным тоном, каким начал, указывая своей пятерней на расстилавшееся под нашими ногами море, - никакую дрянь эту наше море в себе не держит, все выкидывает вон из себя: все эти бревна, щепы там, что ли - все на берег мечет. Чистоту блюдет!
Он показал при этом на ряды сухих сучьев, досок и тому подобного, рядами сбитых на прибрежный песок, по которому мы продолжали ехать все дальше влево.
В море белел новый парус: солнце осветило большое судно.
Лодья идет, - заметил я, - должно быть, из Архангельска?
Ямщик быстро оглянулся, удивленным взглядом посмотрел на меня и спрашивает:
А ты почем это смекаешь?
Да ветер дует оттуда, а лодья бежит парусом...
Так, воистину так: знаешь, стало быть; а то возим и таких, что и не смекают. Не спуста же ты с Волги то сказывался.
Заблудившаяся стерлядь.
Архангельские поморы до того любопытны и подозрительны, что во всякой деревне являются толпами и в одиночку опрашивать всякого, куда, зачем и откуда едет, и всякою подробностию жизни нового лица интересуется едва ли не больше собственной. В этом поморские мужики похожи на великорусских баб и нисколько на мужиков, почти всегда сосредоточенных на личных интересах и более молчаливых, чем любознательных.
А коли смекнул ты умом своим дело это, - продолжал мой ямщик, - так я тебе и больше скажу. Лодья-то эта, надо быть, первосолку рыбу-тресочку с Мурмана привозила: опять, знать, туды побежала за новой! Едал ли, твоя милость, свежую-то?
Получивши утвердительный ответ, ямщик продолжал:
Больно, ведь, хороша она, свежая-то: сахарина, братец ты мой, словом сказать! Нам так и мяса твоего не надо, коли тресочка есть - верно слово! У вас там, в Расее-то, какая больше рыба живет, на Волге-то на твоей?
Стерлядь, осетрина, белужина, судаки...
Нет, мы про этих и слыхом не слыхали, не ведутся у нас. Стерлядь-то вон, сказывают, годов с пять показалась на Двине: так едят господа, да не хвалят же. Треска, слышь, да семга наша лучше! Нет, у нас вашей рыбы нет: у нас своя. Вон видишь колышки?
Ямщик при этом указал в море. Там торчали в несметном множестве над водою колья, подле которых качался карбас, стоящий на якоре; из-за бортов суденка торчала человеческая голова, накрытая теплой шапкой. Ямщик продолжал:
К колышкам к этим мы сети такие привязываем: камбала заходит туда, навага опять, кумжа; кое-кое вредкую и сельдь попадает, семужка - мать родная барышная рыба да вон гляди: карбасок качается, голова торчит - это сторож. Как вот он заприметит, что заплыла рыба, толкнула сеть, закачала кибасы (верхние берестяные трубочки, поплавки сети), он взвопит: в избушке-то в этой, что у горы, бабы спят. Услышат они крик, придут, пособят вытащить сеть, Какая там рыбина попадет - вынут.
А места-то вот эти, где мы камбалу ловим, ка́легой зовут, - продолжал мой ямщик, видимо, разговорившийся и желавший высказать все по этому делу. - У нас ведь, надо тебе говорить, на всякое слово свой ответ есть. Вот как бы это по-твоему?
Он показал на прибрежье.
Грязь, по-моему, ил...
По-нашему - няша ; по-нашему, коли няша эта ноги человечьей не поднимет - зыбун будет. По чему даве ехали - кечкар : песок-от. Коли камней много наворочено по кечкару, что и невдогад проехать по нему это костливой берег. Так вот и у нас. В Онеге будешь - там это увидишь вчастую. Там больно море не ладно, костливо!
Вот это, - продолжал он опять, - что осталась вода от полой воды, лужи - залёщины . Так и знай! Ну да ладно же, постой!
Он замолчал, пристально всматриваясь в море. Долго смотрел он туда, потом обернулся ко мне с замечанием:
А ведь про лодью-то про эту я тебе даве соврал: лодья-то ведь соловецкая! Не треску, а, знать, богомольцев повезла.
Почему же ты так думаешь?
Да гляди: на передней мачте у ней словно звездочка горит. У них завсегда на передней мачте крест живет медный; поближе бы стала, и надпись бы на корме распознал. Они ведь у них... лодьи-то расписные такие бывают. Поэтому и вызнаем их. И лодье ихней всякой имя живет, как бы человеку примерно: Зосима бы тебе, Савватий, Александр Невский.
Между тем волны начали плескать на песок заметно чаще и шумливее; в лицо понес значительно свежий ветер (NО), называемый здесь полуношником. Лодья обронила паруса. Небо, впрочем, по-прежнему оставалось чисто и ясно. Поверхность моря уже заметно рябило волнами. Ямщик мой не выдержал:
Вот ведь правду я тебе даве сказал: нет в нашем море спокою. Завсегда падет какой ни есть ветер, вон теперь на голомянной (морской) сменился.
При этих словах он повернул голову на сторону ветра и, не медля ни минуты, опять заметил:
Межник от полуношника ко встоку (ОNО); ко встоку-то ближе, вот какой теперь ветер заводится. Пойдет теперь взводень гулять от этого от ветра, всегда уж такой, из веков!
Едва понятная, по множеству провинциализмов, речь моего собеседника была для меня еще не так темна и запутанна, как темна, например, речь дальних поморов. На наречие ямщика, видимо, влияли еще близость губернского города и некоторое общение с проезжающими. В дальнем же Поморье, особенно в местах удаленных от городов, мне не раз приходилось становиться в тупик, слыша на родном языке, от русского же человека непонятные речи. Прислушиваясь впоследствии к языку поморов, наряду с карельскими и древними славянскими, я попадал и на такие слова, которые изумительны были по своему метко верному сочинению.
Таково, например, слово нежить , заключающее собирательное понятие о всяком духе народного суеверия: водяном, домовом, лешем, русалке, обо всем, как - бы не живущем человеческою жизнью. Много находил я слов, которые, кажется, удобно могли бы заменить вкоренившиеся у нас иноземные; например: маха́вка - флюгер, пере́шва - бимс, брус для палубной настилки, возка - транспорт, голомя - морская даль, дрог - фал для подъема реи, красная беть - полный бейдевинд, бе́тать - лавировать, приказенье - люк, упруга - шпангоут. Правда, что в то же время попадаются и такие слова, каковы, например: леме́ха - подводная отмель, па́дера - бурная погода с дождем, ала́ж - место на судне, усыпанное песком и заменяющее печь, гуйна - будка на холмогорском карбасе... Но об этом в своем месте.
Что это тебя охмарило, твоя милость? - Снова заговорил мой ямщик.
Что ты говоришь? - спросил я.
Да, вишь, тебя словно схитил кто, осерчал что ли?
Задумался.
То-то. А я думал, не от меня ли, мол?
А что, земляк? - Начал я, чтобы поддержать снова завязавшийся разговор между нами.
Чего твоей милости надо: спрашивай!
Неужели у вас только на море и промысел?
У нас-то?
Не все у моря; в город ходят, на конторах там живут; суда опять чинят...
Да ведь вы и хлеб, кажется, сеете?
Как же! Треть ржи высеваем, две трети жита (ячменя). Да что ты захотел от нашего хлеба? Только ведь слава-то, что сеем, себя надуваем, а гляди, все казенной едим: своего не хватает. Вон лета-то наши, видишь, какие у нас: все холода стоят. Где ему тут, хлебушку, уродиться? Не уродиться ему, коли и хорошее лето задастся. Вот и посеем, и надежду на это большую положим, и ждем, и в радость приходим: взойдет наше жито и семя нальется. А там, гляди, из каждой мшины и пошел словно пар туманом: все и прохватит, и позябнет твой хлеб - твои труды. Из чего тут биться, к какому концу приведешь себя? Ни к какому. Верь ты слову!
Вон, коли хочешь, поле-то наше, все оно тут налицо! Продолжал ямщик, опять указывая на море, - это поле и пахать не надо: само, без тебя рожает. Вон откуда мы хлебушко-то свое добываем и не обижает, ей-Богу! Поведешь с ним дело, без лихвы не выйдешь из него, ей-Богу!..
Солза .
Мы повернули в гору. Вода значительно прибывала, чем дальше, тем больше. Волны морские становились круче и отдавали глухим шумом, который так увлекателен был во всем этом безлюдье. Есть где было разгуляться и этому морю, и этому шуму, из-за которого не слыхать уже было ни чаек, не видать уже было лодьи, ни сторожевых карбасов. Мы ехали недолго и, стало быть, немного, когда под нашими ногами, под горой, раскинулась неширокая река Со́лза, а по другую сторону - небольшое селение того же имени, с деревянною церковью. Надо было переезжать на карбасе и тащить свои вещи пешком с полверсты для того, чтобы взять новых лошадей и поверить личными расспросами ту поговорку, которая ходит про солзян, и по смыслу которой, будто они, выходя на морской берег, к устью реки своей, и видя идущую морем лодью, говорят на ветер: "Разбей Бог лодью - накорми Бог Солзу".
Настоящий же смысл этого присловья оказался таков, что Солза, находясь в довольно значительном удалении от моря на реке, в которую только осенью (и то в небольшом количестве) заходит семга, живет бедно, живет почти исключительно, можно сказать, случайностями: и тою же починкой разбившейся о ближайший, богатый частыми и значительными по величине песчаными мелями, морской берег, или ловлею морского зверя - белухи , которая только годами заходит сюда. Хлебопашество в Солзе также незначительно по бесплодию почвы и суровости полярного климата, и вообще деревушка эта при наглазном осмотре гораздо беднее многих других.
Посад Ненокса; соляные варницы; беломорская соль и способы ее добывания.
Также незначительно хлебопашество и в следующем поморском селении Нёноксе, но посад этот несравненно богаче и многолюднее Солзы. Не говоря уже о том, что Нёнокский посад, вследствие какой-то случайности, разбит на правильные участки с широкими прямыми улицами, самые дома его глядят как-то весело своими двумя этажами. В нем две церкви, из-за которых синеет узкая полоса моря, удаленного от посада прямым путем на шесть верст. По улицам бродит пропасть коров, овец, лошадей, попадается, против ожидания, много мужиков и не в рваных лохмотьях, как в Солзе. Видимо, живут они зажиточно и живут большею частию дома, не имея нужды отходить от него.
Множество каких-то длинных, мрачных с виду изб, попадавшихся мне на дальнейшем пути по берегу из Неноксы в Сюзьму и оказавшихся соляными варницами, принадлежит посадским. В этом исключительном занятии вываркою из морской воды соли ненокшане находят средства к замечательно безбедному существованию. Всех солеваренных заводов по прибрежьям Белого моря насчитывали до десяти. Кроме того, двенадцать соляных колодцев принадлежали к варницам посада Неноксы. Соль, вывариваемая здесь, называется ключевкой , тогда как соль, добываемая на дальних варницах Летнего берега, например в Красном селе, называется морянкой . Дело выварки соли производится таким образом: к чрену - огромному железному ящику, утвержденному на железных же полосах снизу и на четырех столбах по сторонам, - прокапывают от моря канаву или проводят трубы. Канавой этой или трубами протекает морская вода (рассол) и наполняет чан доверху. Снизу подкладывают огонь и нагревают рассол этот до состояния кипения и испарения; затем накипевшую грязь снимают сверху лопаткой, а оставшуюся на дне чрена массу (по прекращении водяных испарений) выгребают и сушат на воздухе...
В осенней ловле семги и другой мелкой морской рыбы ненокшане ищут только простого средства прокормить самих себя и семьи свои некупленной пищей. Правда, что дело выварки соли ведется - во имя русского авось, небось, да как-нибудь - небрежно. Рассол, проходя через грязные, никогда не вычищаемые трубы, дает соль какого-то грязного, черного вида с известковым отложением и другими негодными к употреблению примесями. Правда, что эта соль даже и вкусом своим, отдающим какой-то горечью, не выполняет главного своего назначения и не заключает необходимого характеристического свойства - солености, и, во всяком случае, неизмеримо отошла достоинством от норвежской и французской соли, вывозимой поморами из-за границы (через Норвегию) беспошлинно.
Этим обстоятельством можно объяснить себе то, что по берегу Белого моря много уже солеварен прекратили свои работы и что поморы решительно не пускают в дело при солении рыбы свою соль, ограничивая ее употребление только за домашнею трапезой в приварке и в других пресных блюдах. Между тем рассол морской воды по всему Летнему берегу до того основателен, что дает возможность к существованию до настоящего времени в следующем за Неноксой небольшом селении Сюзьме морских купален. Они давно и положительно облегчают страдания многим архангелогородцам, выезжающим сюда по летам на дачи. Точно так же мелькнули и мимо меня городские шляпки, зонтики, пастушеские шляпы с широкими полями и трости в мой проезд через это селение, как мелькали они и в 1831 году, когда начались сюда из Архангельска первые выезды больных для морских купаний.
Уна и Унские Рога с Пертоминским монастырем и преданиями о Петре Великом.
Те же задымленные, старые саловаренные сараи, пропитанные копотью, смрадом и сыростью, попадаются за Сюзьмой: в Красной горе и в Унском посаде. Те же слышатся рассказы о том, что и здесь ловят по осеням в переметы семгу; что в невода охотно попадает и навага, и кумжа что так же у берега выстают белухи, но что не ловят их за неимением неводов, которые дорого стоят. Невода эти архангельские барышники и готовы бы уступать напрокат, но только за невероятно дорогую процентную сумму, от которой-де легче в петлю лезть, чем класть обузой на свои доморощенные, некупленные плечи. Во всех этих местах по осеням идет и сельдь, но в весьма незначительном количестве сравнительно с кемским Поморьем.
Те же двухэтажные дома, те же деревянные церкви или, вместо них, такие же часовни мелькают в каждом селении; тем же безлюдьем поражают прибрежья моря; те же, наконец, колышки торчат в воде у берега, и качается на волне карбас со сторожем. Разницы в способах ведения промыслов между всеми этими селениями нет никакой, кроме, может быть, того только, что в Уне (посаде) обыватели ходят также в лес за лесной птицей по примеру следующих деревень к городу Онеге, на значительное уже расстояние удаленных от моря, каковы: Нижмозеро , Кянда, Тамица, Покровское и другие. На 20, на 30 верст удалёны селения одно от другого и только по две, много по три часто пустых промысловых избушки напоминают на всех этих перегонах между приморскими деревнями о близости жизни, труда и разумных существ. Чем-то необычайно приятным, как будто какою-то наградой за долгие мучения кажется после каждого переезда любое из селений, в которое ввезут наконец с великим трудом передвигающие ноги почтовые лошаденки. То же испытывается и в следующих за Сюзьмой селениях - в деревне Красной горе и в посаде Унском.
Не доезжая нескольких верст до Уны, с крайней и Последней к морю горы, можно (с трудом впрочем) усмотреть небольшой край дальней губы, носящей имя соседнего посада. Губа эта памятна русской истории тем, судьба указала ей завидную долю принять на свои тихие воды, защищенные узким проходом (рогами ) от морского ветра ту лодью, которая в 1694 году едва не разбилась в страшную бурю 2-го июня о подводные мели и едва не поглотила вместе с собой надежду России - Великого Петра. Западный мыс, или рог, называемый яренгским (ниже соседнего красногорского), покрыт березняком и держит перед собою песчаную осыпь, которая в ковше губы, на низменном прибрежье, покрыта лугами, а дальше по горе-лесом и пашнями. Красногорский рог, покрытый сосняком и возвышающийся над водою на 11 с лишком сажен, закрывает со стороны моря небольшой, бедный иноками и средствами к жизни заштатный монастырь Пертоминский и две деревушки с саловарнями.
В Пертоминском монастыре расскажут, что основание ему положено при царе Грозном (1599 года)*
(*1599 г. - дата основания Пертоминского монастыря, приводимая Максимовым, расходится с другими данными, согласно которым, монастырь возник в 1617 г. (Л.И.Денисов. Православные монастыри Российской империи. М., 1908, с. 7). Указание на то, что монастырь заложен при Иване Грозном, также неверно - этот царь скончался в 1584 г. Другие даты, касающиеся строительства монастыря, также расходятся с приводимыми в иных источниках).
сергиевским старцем Мамантом в часовне, выстроенной над телами утонувших в море Соловецких монахов Вассиана и Ионы и выкинутых здесь на берег; что в 1604 году иеромонах Ефрем выстроил церковь Преображения, ходил в Вологду за антиминсом, на пути был ограблен и убит литовскими людьми; и что, наконец, только в 1637 году удалось кончить дело строения монастыря понойскому иеромонаху Иакову, построившему вторую церковь Успения и собравшему людное братство.
Расскажут, что Петр I с бывшим при нем архиереем Афанасием свидетельствовал мощи основателей, а, найдя кости на одного праведного, сам их запечатал, однако ж велел преподобным составить и издать службу. Покажут также, что время основания церкви каменной относится к 1685 году, и прибавят ко всему этому то, что немногочисленность братии в настоящее время зависит от крайнего удаления монастыря в сторону от большой дороги. Питаются они промыслом рыбы и подаянием от богомольцев, изредка заходивших сюда по пути в монастырь Соловецкий, но с тех пор, как завелись пароходы, весь народ проезжает мимо. Впрочем, и в счастливое время этот монастырек, со скотным двором и другими хозяйственными пристройками, более походил на большую ферму, чем на иноческую обитель, будучи даже огорожен одним палисадом. Благодаря спасению своему, Петр I приказал построить каменные кельи и эту ограду с угловой башнею, от которых теперь и следа не осталось. Рассказывают, что и монахи ленивы были молиться, говоря приходящим богомольцам:
Мы только так позвонили, а за нас ангелы молятся на небесах.
В голодный 1837 год монастырь помогал поморам, которые приходили сюда (даже из-за 35 верст, как из Сюзьмы), чтобы принять ломоть хлеба и отнести его к страдающей семье. Монахи с нанятыми рабочими сеют ячмень и рожь и садят овощи (даже огурцы в парниках). В монахах все больше люди дряхлые, ни к какой работе не способные, и в бесплатных рабочих - обетные. Один был человеком достаточным: накупил рябчиков, повез в Петербург, и на дороге загнил товар. Вскоре судно его потонуло в Мсте, а затем обанкротился в 7 тыс., кредитор его в Норвегии. Бедняк удалился в эту пустынь и сделался в ней послушником.
Селения по Летнему и Онежскому берегам.
Следующие по Летнему берегу селения - Яренга и Лапшенга - выстроены на песчаном берегу и оба имеют по одной церкви, около 50 домов и по сту обывателей. Яренгская церковь выстроена над телами св. Иоанна и Логина, также утонувших в море вблизи Яренги во времена царствования Федора Ивановича, около 7102 (1594) года. С севера от Лапшенги берег к деревне Дураковой значительно возвышается. Выступают из-за прибрежьев лесистые холмы, известные под названием Летних гор , поднявшихся над морем от 30 до 50 сажен. Однако общий вид берега безотраден: тускло горят во всегдашней мрачности воздуха беломорских прибрежьев сельские кресты и главы, хотя солнце и благоприятствует лучшему явлению.
Серенькими кучками кажутся из морской дали дома деревень этих. За ними мрачно чернеет лес, раскинутый по горам, и страшно глядят зубья и щели прибрежного гранита, за который цепляется весь этот сосняк и ельник. За маленькой бедной деревней Дураковой к Ухт-Наволоку берег становится до того костлив , или каменист, что кажется целой стеной, огромной поленницей набросанных один на другой кругляков. К тем из них, которые подмываются водой, прицепилось несметное множество маленьких, белого цвета раковинок, в которых, от действия солнечных лучей и приливов воды, развиваются морские улитки. Видится тура, или морская капуста. Обхвативши листьями своими, бледно-зеленого цвета, прибрежный камень, тура плавает на поверхности воды, не отходя далеко от места своего прикрепления, и поддерживается в этом плавучем положении теми шариками, которые заменяли здесь, вероятно, и цвет, и плод, и которые сильно щелкали и под ногами и в руках от нажиманья.
«МОРЕ - НАШЕ ПОЛЕ» (Л.Шмигельский).
Поморская поговорка «Море - наше поле» очень точно отражает то громадное значение, которое имели для жителей Беломорья морской промысел и мореплавание.
Своими судовыми причалами обладали все «поморские» монастыри, в том числе и . Его пристань могла принять несколько судов одновременно…Путешественник А.Михайлов, посетивший Николо-Корельский монастырь летом 1856 года, еще видел остатки свай этой некогда оживленной пристани…
Поморы Летнего берега, особенно монастырские промышленники, очень рано стали совершать плавания к Кольскому побережью Белого моря, ловя сетями и «заборами» семгу и селедку. Свой постоянный район промысла на Варзуге, располагавшийся по прямой на северо-запад на расстоянии около 240 километров, имел и Николо-Корельский монастырь.
Затем поморские суда вышли в Баренцево море («Студенец»). Начались ежегодные походы промышленников к Коле и в Печенгскую губу для лова трески и палтуса. Из приходно-расходной книги Николо-Корельского монастыря мы узнаем, что в 1552 году очередное плавание туда совершил монах Игнатий, а в следующем году тем же маршрутом прошел монах Иосиф. В XVII веке район промыслов расширился. Наступило время освоения Новой Земли. С 1690 года Николо-Корельский монастырь владел несколькими промысловыми становищами на этом острове. А в Холмогорах постоянно находился один из никольских старцев для организации «новоземельского кочевого промысла». Добывали главным образом, моржей у берегов Южного острова. Случалось, охотились и на белых медведей.
Говоря о монастырских промыслах, необходимо иметь в виду, что они осуществлялись руками, главным образом, наемных работников - «покрученников», получавших свою долю добычи. Однако и фигура «моряка в рясе» - монаха или монастырского служителя, которая так удивляла иностранцев, начиная с середины XVI века, когда начались плавания английских, а затем французских и голландских судов в Белое море, была обычной для того времени.
Морские суда - кочи и лодьи - строились на Северной Двине, в Усть - Пинеге и на Онеге. Лучшими лодьями считались по качеству онежские - «корелянки».
Свой морской флот имел и Николо-Корельский монастырь.
Он создавался как за счет покупки заказанных на древних судоверфях судов, так и за счет вкладов прихожан. В 1572 году, например, богомольцы передали в Николо-Корельский монастырь «лодью-корелянку» со всей снастью, с двумя большими якорями и шеймами (якорными канатами). В 1600 году житель Уны Первый Степанов дал монастырю «вкладом лодью-корелянку со снастью и с карбасом за 20 рублей». (Кочи и лодьи несли на палубе или буксировали морские лодки-карбасы, употреблявшиеся для связи с берегом, при завозе якорей, а также для производства моржового и рыбного промыслов).
В XVI веке для обеспечения нужд судостроителей и судовладельцев всем, что необходимо для постройки и оснащения морского судна, на Севере образовалась целая промышленность, специализировавшаяся по районам Поморья. При этом железо для металлических деталей привозилось издалека, из Олонца в Карелии.
Первое свидетельство этой «контрагентской поставки» относится к 1597 году, когда старец Николо-Корельского монастыря Кузьма купил в Олонце 600 «полиц цренного железа», заплатив за это 27 рублей.
В XVI веке устье Двины приобретает и общегосударственное значение, как отправной пункт морской торговли на Запад.
Ввиду развернувшейся в конце XV века ожесточенной борьбы Руси со Швецией за Прибалтику, плавание по Балтийскому морю стало небезопасным. Это заставило Москву обратить особое внимание на Белое море, морской путь из которого в Западную Европу был хорошо известен ранее. Этим путем стали широко пользоваться московские послы, отправлявшиеся в дружественную Данию. Наиболее известно путешествие из устья Северной Двины ко двору датского короля посланника Ивана III Григория Истомы, совершенного в 1496 году.
Европа могла узнать о нем в 1549 году, когда барон Сигизмунд Герберштейн, дважды (в 1517 и 1525 гг.) побывавший в Москве в качестве посла австрийского императора, издал в Вене свои «Записки о московитских делах». Герберштейн подробно записал рассказ Истомы, с которым встречался в Москве, и привел его в своих «Записках…».
Прибыв к устью Северной Двины, Григорий Истома и его спутники наняли четыре поморских судна (суденышки, как пишет Герберштейн) и вышли в «океан». (Герберштейн не подозревал, что Белое море является отдельной частью океана). Являлась ли отправной точкой этого плавания пристань Николо-Корельского монастыря - об этом можно только гадать…
Интересно, что в своих «Записках» Герберштейн подробно описывает устье Северной Двины, которое, по его мнению, имеет 6 рукавов, отмечает Печору и Мезень, упоминает всего 17 населенных пунктов северного края, в том числе города Вологду, Устюг, Холмогоры, Пинегу, Пустозерск.
Морская дорога от устья Двины на Запад сделалась обычной для русских дипломатов.
Неоднократно посещали Северную Двину в начале XVI века послы датского короля. Для отправки московских послов со свитой за границу с крестьян Поморья собирали особый налог - «посольские деньги» . Поморье было обязано оплачивать проезд посольства до Двины и предоставлять им суда. Для постоя послов и их спутников перед отправкой за море обычно использовались монастыри как наиболее крупные общественные сооружения того времени. Среди них, особенно во второй половине XVI века, наиболее часто посещался московскими послами Николо-Корельский монастырь, расположенный в непосредственной близости от моря.
Архивы северных монастырей хранят немало записей о пребывании здесь московских гостей в XVI веке. Так, например, летом 1571 года в Николо-Корельском монастыре жил посол Ивана Грозного Иван Григорьевич Старый, ходивший в Норвегию для установления русско-норвежской границы.
О «БЕЛОЙ СОЛИ» (Л.Ю.Таймасова, «Зелье для государя»).
К концу XVI в. англичане лидировали в искусстве сбора секретных сведений. Тайные агенты Лондона действовали во всех странах Западной Европы. Так, папский нунций во Флан-дрии писал в 1580-х гг., что, по его мнению, английской коро-леве каким-то непостижимым образом удается проникать во все дела. У испанцев вызывало беспокойство, что Елизавета видит все насквозь. Испанский посол во Франции предупреждал Ватикан, что многие английские религиозные (католические) изгнанники являются шпионами. В папской курии обсуждался неприятный вопрос, что королева Елизавета I имеет своих аген-тов в окружении Папы.
Дипломатическая курьерская почта в XVI в. действовала на постоянной основе. Из Венеции в Брюссель письма достав-лялись за 5 дней, из Брюсселя в Лондон — от 2 до 6 дней в зависимости от погодных условий. Из Рима в Венецию курьеры добирались за неделю, из Венеции в Нюрнберг — за 8 дней. Экстренные депеши доставлялись в два раза быстрее. Горячие новости ценились на вес золота. Если плата обычного курьера была чуть выше жалованья солдата, то доставка экспресс-почты оплачивалась суммой, которая могла превышать годовое жало-вание профессора Падуанского университета.
Донесения агентов содержали сведения различного характера: о военных приготовлениях и о скандалах при дворах, о тайных переговорах и о коммерческих сделках на стратегические товары, об уголовных процессах и эпидемиях. Особо важные послания зашифровывались с помощью тайнописи.
В отделе манускриптов Британской библиотеки сохранились шифровки с приложением раскодированного текста. Важное место в таких документах отводилось сообщениям о... соли: о ее поставках в воюющие страны или о заключении коммерческих сделок на суммы в 200 000 дукатов и больше. Следует отметить, что в донесениях речь шла о «белой соли», которая в отличие от «морской» представляла собой стратегический товар, т.к. явля-лась исходным сырьем для производства пороха.
Для изготовления пороха требовались три компонента: калий-ная селитра, сера и уголь. Основу пороховой смеси составляла калийная селитра, на ее долю приходилось от 65 до 75 процен-тов. Природная селитра встречалась в виде залежей в Индии, Персии и Египте. Арабы называли это вещество «китайский снег», византийцы — «индийская соль».
Расход «индийской соли» был настолько велик, а стоимость так высока, что в Европе предпринимались попытки наладить добычу калийной селитры из навоза, фекалий, пищевых отбро-сов или трупов. Белый кристаллический налет соскабливали со стен пещер, отхожих мест и склепов. Первое сообщение о получении селитры таким способом во Франкфурте относится к 1388 г. Однако длительность процесса образования кристаллов (от 3 до 5 лет) и трудоемкость извлечения готовой селитры, которое требовало до 36 промывок и выпариваний, а главное - ничтожность выхода конечного продукта (около 0,2 %), заставили алхимиков обратиться к другому способу.
С древних времен алхимики знали, как можно получить «индийскую соль» искусственным путем. Для ее изготовления требовались натриевая (или кальциевая) селитра, квасцы, мед-ный (или железный) купорос и поташ. При нагревании натрие-вой селитры с медным купоросом и квасцами получали азотную кислоту. Смешивая азотную кислоту и поташ (обычный белый пепел, который остается от сгоревшей древесины), изготавли-вали калийную селитру.
В Средние века основным источником натриевой и каль-циевой селитры являлись соляные промыслы. Селитроносная порода лежит обычно на пласте поваренной соли, ее извлечение производится с помощью кипячения и отстаивания насыщен-ного соляного раствора. Процесс извлечения натриевой сели-тры носил название «получение соли из соли» (« to make salt upon salt »).
Конечный продукт представлял собой белые кри-сталлы солоноватого вкуса, использовался как для заготовки рыбы или мяса, так и для изготовления калийной селитры.
Обладание запасами дешевой «белой соли» позволяло сни-зить себестоимость пороха и занять лидирующее положение среди других стран по продаже товара, столь необходимого воюющим странам. Документы свидетельствуют, что на протя-жении всего XVI в. Англия боролась с неослабевающим упор-ством за монополию на европейском соляном рынке.
Появление на лондонском рынке большого количества дешевой «белой соли» совпадает по времени с установлением неофициальных контактов англичан с Россией. Московия попала в поле зрения Англии в самом начале столетия, когда цены на соль внутри России значительно снизились. Если в 1499 г. «мех», или мешок, соли в Пскове стоил 35 денег, то в 1510 г. каргопольцы покупали товар уже в два раза дешевле. Падение цен, скорее всего, было связано с открытием богатых соляных месторождений в Вычегодске и с активной предпри-нимательской деятельностью братьев Степана, Осипа и Влади-мира Федоровичей Строгановых.
К 1526 г. добыча сырья достигла такого уровня, что Россия не только полностью обеспечила свои нужды, но и вышла с предложением на международный рынок. С 1540-х гг. дешевая русская соль, скорее всего, стала поступать в Англию, где ее перекупали представители Антона Фуггера.
Помимо продукции Строгановых на экспорт отправлялась соль, которая добывалась на солеварницах северных монастырей.
С 1580 г. по 1584 г. продажа соли Соловецким, Спасо-Прилуцким и Никольско-Корельским монастырями увеличилась с 2-4 тыс. пудов до 40-50 тыс. пудов в год, однако цены в стране не только не упали, но выросли и достигли в среднем 20 денег за пуд. (Л.Ю.Таймасова «Зелье для государя»).
НА СОЛЕВАРНИЦАХ СЕВЕРНЫХ МОНАСТЫРЕЙ.
Солеварение - одно из самых древнейших занятий жителей Русского Поморья. Соль, являвшаяся ценным про-дуктом и товаром, добывалась во многих пунктах Беломор-ского побережья, а также на Пинеге, Кулое и в ряде дру-гих мест. Но самыми производительными источниками обла-дала Ненокса, которая в конце концов захватила внутрен-ний рынок торговли солью. Объяснялось это просто. Кон-центрация соли в рассоле, добываемом из ненокских сква-жин, была в 2—4 раза выше, чем в других «усольях»,
К занятию солеварением жителей Поморья, по всей ве-роятности, побудил другой важнейший промысел этого края — рыболовство. Соль требовалась для засолки значитель-ных уловов морской рыбы, издавна ставшей одним из главных предметов северной торговли. В дальнейшем бело-морская соль сама стала товаром, имевшим большое обще-государственное значение.
Первые разработки соли ненокскими жителями относят-ся к началу XV века. В XVI веке варницы Неноксы в ос-новном принадлежат монастырям. Здесь, кроме упоминавшегося Кирилло-Белозерского, имели свои владения Михайло-Архангельский, Антониево-Сийский, а также Соловецкий монастыри.
Крупным владельцем варниц в Неноксе был и Николо-Корельский монастырь, для которого добыча и продажа со-ли была, как уже упоминалось, основным источником су-ществования. Еще в 1545 году грамотой царя Ивана Гроз-ного монастырю было дозволено в Неноксе «соляных пожилин (источников соляных растворов— Л.Ш. [Л.Ш.- Леонид Шмигельский]) искати и тру-бы и варницы ставити и соль варити».
Из грамоты царя Ивана Грозного 1545 году вырисовы-вается общая схема торговли ненокской солью. Право на за-купку соли на месте ее добычи было строго ограничено — им пользовались только местные жители-двиняне, а также важане. Для продажи иногородним торговцам соль по мо-рю, Малокурье и Двине доставлялась насыпью на плоско-донных судах-дощаниках и насадах в Холмогоры. Нужно отметить, что эти суда достигали большой грузоподъемно-сти. Так, из документов Антониево-Сийского монастыря сле-дует, что дощаники, принадлежавшие монастырю, поднимали до 10 тысяч пудов соли (160 тонн).
В Холмогорах ненокская соль складывалась в амбары, принадлежавшие монастырям и находившиеся под наблюдением монахов в ранге приказчиков. Там соль ссыпалась в тару — «мехи» или «рогожи», закупалась иногородними купцами, в первую оче-редь вологжанами и устюжанами, и развозилась по всей стране. Монастыри имели право отправлять соль на про-дажу в Великий Устюг, Тотьму, Вологду и в другие места и на своих судах. Представление об объеме соледобычи в Неноксе могут дать данные, относящиеся к 1772 году, когда из 9 варниц там было добыто и поставлено «частными заводчиками» в казну 134033 пуда (2145 тонн) соли.
Технология соледобычи в Неноксе, как и в других по-морских «усольях», была проста. Вдоль речки, с восточной стороны посада, у подошвы довольно высоких холмов, по-крытых торфом, выкапывались колодцы-скважины глубиной до 10 метров, соответствовавшей примерно горизонту уров-ня моря. Однако вода в них была значительно солонее мор-ской, что дает возможность предполагать о наличии в этих местах глубинных залежей каменной соли, питающей источ-ники. Но это предположение никогда не было проверено разработками, хотя край очень нуждался в качественной горной соли.
Поднятый из скважины рассол выпаривался в громад-ных плоских сковородах — «цренах» длиной до 2,5 мет-ра, шириной до 1 метра с отогнутыми краями высотой по-рядка 5 см. Огонь разводился непосредственно под «цренами» в открытой сверху кирпичной кладке. Рассол вливался по мере выпаривания, готовая соль складывалась тут же, в углу сарая. Конечно, такой «открытый» способ варки от-рицательно сказывался на качестве соли, которая имела се-роватый оттенок. На дрова сводились леса по берегам реки Неноксы, которые сплавом доставлялись к варницам.
Все крупные монастыри, а затем и частные владельцы варниц, имели там свои лесные делянки. На выработку соли в коли-честве около 70 пудов требовалось 10—12 саженей дров. Между хозяевами лесных участков нередко возникали споры о границах своих владений, за разрешением которых, случа-лось, приходилось им обращаться и к царю. Так, из чело-битной чернеца Феофила царю Михаилу Федоровичу в 1642 году мы узнаем, что «сийские старцы (приказчики Антоние-во-Сийского монастыря.— Л.Ш.) своим озорничеством надееся на богатство и на ложное свое челобитье, секут чужевые дрова около Неноксы по многим дорогам».
***
 Отлив пушки в Москве в конце XV в. Лицевой летописный свод.
Отлив пушки в Москве в конце XV в. Лицевой летописный свод.
На Руси огнестрельное оружие стало использоваться позд-нее, чем в Европе. Если в середине XIV в. практически все евро-пейские армии были оснащены пушками, то первое летописное известие о применении огнестрельных орудий в России отно-сится к 1382 г. — при обороне Москвы от орд хана Тохтамыша. Очевидно, в составе московского войска находились запад-ные артиллеристы, т.к. русские освоили обращение с оружием семь лет спустя. Голицинская летопись сообщает, что «лета 6897 (1389 г.) вывезли из немец арматы на Русь и огненную стрельбу и от того часу уразумети из них стреляти». Тогда же немцы продемонстрировали технологию изготовления поро-ховой смеси.
Эксперимент закончился неудачей: в Москве сго-рело несколько дворов «от делания пороха». Не удивительно, что пушки и порох являлись на Руси дорогостоящей редкостью и считались достойным подарком от иностранных правителей. В 1393 г. «прислал магистр немецкий к великому Князю посла о мире и любви, жалуючися на Псковичь и на Литву, и приела в дарех пушку медяну, и зелие, и мастера».
Русские князья, несомненно, стремились снизить затраты на огнестрельный «наряд», покупая металл у ганзейских купцов и приглашая западных специалистов-литейщиков для обучения собственных мастеров. В 1447 г. инок Фома хвалил тверского мастера Микулу Кречетникова: «Таков беяше той мастер, яко и среде немец не обрести такова». Помимо артиллерии и бое-припасов важной статьей военных расходов являлся порох, а точнее — калийная селитра. При отсутствии залежей природ-ной селитры русским на протяжении длительного времени при-ходилось покупать природный минерал у иностранных купцов, позднее — приглашать западных мастеров для организации селитряного дела.
Термин «селитра» появился на Руси сравнительно поздно — во второй половине XVI в. — в переписке московского прави-тельства с англичанами. Во внутренних документах использо-валось слово «ямчуг». Первые сведения о «ямчужном деле», т.е. извлечении кристаллов калийной селитры из органических остатков путем выпаривания, относятся к 1545 г. В разметном списке, составленном по случаю приготовлений к казанской кампании, указывалось количество «пищального зелья», или пороха, взимаемого в качестве налога в натуральном выраже-нии либо деньгами. В грамоте говорилось: «А которым людем зелья добыти не мочно, и Государь Великий Князь велел тем людем дати мастеров емчюжных и пищальников; а велел им варити зелье тем людем собою, а мастером им указывати». По наблюдениям исследователей, в правительственном доку-менте понятия «делать порох» и «варить ямчуг» смешивались. Это дает основание предположить, что и в 1540-х гг. ямчужный промысел являлся делом новым и еще не освоенным для Московии.
ПУТЕШЕСТВИЕ В XVI ВЕК. ДРЕВНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ. (Л.Шмигельский, 1988 г.).
В 1627 году в Москве было составлено замечательное ге-ографическое описание Русского государства — «Книга Большому Чертежу», в котором значительное место заняла «Роспись поморским рекам берегу Ледовитого океана». Без-вестные русские географы и топографы XVI—XVII веков со-вершили, по существу, научный подвиг — ими было подробно описано все морское побережье страны от границ с Нор-вегией до устья Оби.
Интересно, что из 11 дошедших до нас экземпляров «Книги Большому Чертежу» 3 были обнаружены на Севере, причем один — в библиотеке Николо-Корельского монастыря.
Путеводителем нам будет вышедший в 1875 году об-стоятельный труд Е. Н. Огородникова «Прибрежья Ледовито-го и Белого, морей с их притоками и «Книга Большого Чертежа».
Начнем с Унской губы и двинемся вдоль побережья на восток. На впадающей в Унскую губу реке Луде уже в конце XV века существовали два поселения — Уна и Луда.
Унское селение известно с 1398 года, когда оно было упо-мянуто в уставной грамоте великого князя московского Василия I. Грамота определяла размеры поборов и судебных пошлин, взимавшихся с крестьян в пользу князя, и относи-лась ко времени первой попытки Москвы овладеть Поморьем.
В Двинской грамоте 1471 года, так называемой «Отказ-ной новгородской грамоте на Двинские земли», Уна, названная Унским Усольем, значится в числе московских велико-княжеских владений, уступаемых Новгородом, а название Усолье свидетельствует, что уже тогда в Уне занимались солеварением. Луда в начале XVI века встречается под на-званием Лудское Усолье.
В начале XVII века Уна и Луда известны уже как поса-ды, то есть поселения городского типа, имевшие свою торгово-ремесленную часть. Правда, число дворов, которым опре-делялась величина посада, было в них невелико: в 1622 году в Луде их насчитывалось 17, в Уне—22, но и посадов-то во всем громадном крае тогда было всего 26, из них три — на Летнем берегу Белого моря! (Третьим посадом была Ненокса).
В 1559 году недалеко от Унского посада был основан Пертоминский монастырь .
Но двинемся дальше по побережью. Расположенное в устье реки Сюзьмы Сюземское селение было известно при-мерно с того же времени, что и Уна. В нем также издавна занимались добычей соли, и впоследствии оно называлось Сюземским Усольем. Как указано в Двинских писцовых кни-гах за 1622—1624 гг., Сюзьма составляла вотчину Антониево-Сийского монастыря. В 1684 году при совместном цар-ствовании Петра Алексеевича и Ивана Алексеевича было под-тверждено право монастыря на владение «рыбной ловли по реке Сюзьме и сенных покосов, и варницы — а к варнице пристань».
Следующим пунктом в нашем путешествии по землям XVI века будет Ненокса, на истории которой следует оста-новиться особо.
Ненокса — одно из древнейших новгородских поселений. Располагавшееся при устье реки Неноксы с левой стороны, оно упоминается в уставной грамоте 1398 года московского великого князя Василия I под названием погоста Ненокса, то есть мелкой административно-хозяйственной единицы. Двинская летопись называет Неноксу среди тех 11 погостов Заволочья, которые были в 1419 году разграблены норвеж-цами одновременно с Николо-Корельским монастырем.
Однако двиняне дали тогда захватчикам достойный отпор. Собранное в Холмогорах ополчение настигло разбойников в устье Северной Двины, и немногие из них унесли ноги за море. В 1445 году Ненокса опять подверглась нападению, на этот раз шведов, приходивших из Лапландии, о чем в Новгородской летописи говорится так: «Приходиша свей — мурмане безвестно (неожиданно — Л.Ш.) за волок на Дви-ну ратью... Неноксу воевали и пожгоша и людей изсекоша, а иных в полон поведоша». Но в 1448 году очередная по-пытка шведов поразбойничать на Двинской земле окончи-лась для них плачевно — шведы были наголову разбиты двинянами близ Неноксы.
В 1471 году Ненокса, как уже говорилось, отошла к Москве. В Двинской грамоте, перечислившей московские владения в Заволочье, упоминается и «Ненокса — места солеварные».
Примерно с этого времени Ненокса, как полагают, ста-новится посадом, хотя в таком качестве в документах она впервые встречается лишь в 1615 году, когда грамотой ца-ря Михаила Федоровича принадлежавшие Ненокскому поса-ду варницы на Солозере были переданы во владение Кирилло-Белозерского монастыря. Но еще ранее, в 80-х го-дах XVI века, Ненокса становится объектом пристального внимания этого крупнейшего на Севере монастыря. Извест-но, что тогда монастырский слуга Фуников скупил в Неноксе целую вереницу промысловых участков с соляными вар-ницами. В дальнейшем там постоянно появлялись «старцы», командированные этим и другими монастырями, которые высматривали подходящие участки, обещавшие промысловые выходы, и приобретали их.
По данным 1622 года (а их можно уверенно распрост-ранить и на вторую половину XVI века), Ненокса становится крупным посадом северного края. В ней насчитывалось тог-да 76 дворов, и в списке посадов она стояла сразу за Ар-хангельском (115 дворов). Па первом месте был Великий Устюг — 689 дворов, Холмогоры занимали четвертое место —473 двора.
Широкую известность, далеко выходящую за пределы Поморья, Ненокса получила в XVI веке благодаря своему солеварному промыслу.
На протяжении 4—5 веков в бассейне Неноксы произ-водилась интенсивная вырубка леса не только для нужд солеварения, но и для обеспечения дровами многих посе-лений всего района. Это, естественно, привело к оскудению здешних лесных массивов.
В 1708 году именным повелением Петра I были отобра-ны в казну все солеварни в Неноксе, принадлежавшие мо-настырям. Посад Ненокса в то время насчитывал 207 жителей.
А древний солеваренный промысел в Неноксе удержался вплоть до начала XX века — в 1908 году здесь было добыто 21 тыс. пудов соли. Большинство колодцев и варниц к тому времени было заброшено, вырабатываемая соль низкого каче-ства находила сбыт исключительно в Архангельске, где исполь-зовалась для нужд хлебопекарен и для скота. Один из авторов того времени так иронически охарактеризовал тогдашнюю соледобычу в Неноксе: «Промысел XX века по культурности своей... относящийся к XV веку».
Но вот наступила Отечественная война, и Ненокса вновь ска-зала свое слово. Замечательную поисковую и исследователь-скую работу выполнили учащиеся 24-й школы Северодвинска, члены краеведческой секции школьного музея «Беломорье». Изучив историю солеварного промысла в Беломорском крае (работа ученика 10 «а» класса Романа Галашевского), они устано-вили, что во время Отечественной войны снова ожили забро-шенные ненокские варницы. Женщины Неноксы, выполняя тя-желейший труд солеваров, лесорубов, сплавщиков, круглые сутки варили там соль исконным беломорским способом, вос-полняя ее недостаток в стране, лишенной в то время многих сырьевых источников.
А теперь обратимся к местам, находящимся в непосред-ственной близости от нашего города [Северодвинск], некоторые из кото-рых стали или становятся его составными частями.
Расположенное в устье реки Солзы селение известно с 1555 года под названиями Солзекское , Солзекская слобод-ка, Солозское, когда оно упоминается в связи с купчей кре-постью Николо-Корельского монастыря на двор в Солзе. Этому же монастырю по грамоте царя Ивана Грозного 1578 года принадлежала и вся река Солза с ее рыбными ловля-ми вплоть до озера Солзо, из которого она вытекает. Кроме того, в те времена на Солзе ловились бобры и добывался жемчуг.
Обозначено в «Книге Большому Чертежу» и Кудьмозеро с вытекающей из него речкой Кудьмой, которая перво-начально называлась Кусудьмой. Известно, что в 1578 году рыбные ловли на этом озере принадлежали Николо-Корельскому монастырю. В 1607 году царь Василий Шуйский в своей тарханной грамоте Николо-Корельскому монастырю (т.е. грамоте, фиксировавшей бессрочное освобождение от государственных повинностей - Л.Ш .) среди прочих владений монастыря назвал и «церковное Петровское владение на Кудьме, на Солозской стороне». Речь, видимо, шла о деревне Кузмозерской, ныне существующей Большой Кудьме .
Лежавший напротив Николо-Корельского монастыря большой остров по документам известен уже с самого начала XVI века, когда в «духовной» - завещании жителя Неноксы 1501 года - упоминается и вотчина на Яграх. Расположенный очень удачно между Пудожемским и Никольским (Корельским) устьями Северной Двины, этот остров, относящийся к числу древнейших новгородских владений, в описаниях и на картах XVI - XVII веков называется по-разному: Ягры , Ягорский остров, Агры-Большие и Никольские. В то время на Яграх в изобилии рос сосновый и березовый лес, было несколько ручьев с пресной водой. Славились Ягры и своими лугами. Покосы, принадлежавшие Николо-Корельскому монастырю, встречаются в упомянутой выше тарханной грамоте царя Василия Шуйского 1607 года.
Из населенных пунктов, расположенных на берегах Никольского рукава Северной Двины, остановимся на истории двух, хорошо известных северодвинцам - Конецдворья и Цигломени .
Оба поселения числятся среди погостов Заволочья, разоренных норвежцами в 1419 году, под названиями Конечный погост и Чиглоним. Но еще ранее, в 1398 г., в уставной грамоте московского великого князя Василия I рядом с Неноксой названо новгородское поселение Конечные Дворы. Впоследствии оно же, поименованное селением Конецдворским, числится в качестве прихода.
Что касается Чиглонима, то после разорения 1419 года, оно долго не восстанавливалось и поэтому, вероятно, оказалось пропущенным в Двинской грамоте 1471 года. Но уже в описаниях «Книги Большому Чертежу» это селение под названием Циглы названо на левом берегу Никольского рукава.
«НИКИШКИНЫ ТАЙНЫ» (Ю.П.Казаков).
Бежали из лесу избы, выбежали на берег, некуда дальше бежать, остановились испуганные, сбились в кучу, глядят завороженно на море… Тесно стоит деревня! По узким проулкам деревянные мостки гулко отдают шаг. Идет человек - далеко слышно, приникают старухи к окошкам, глядят, слушают: семгу ли несет, с пестерем ли в лес идет или так…Ночью белой, странной погонится парень за девушкой, и опять слышно все, и знают все, кто погнался и за кем.
Чуткие избы в деревне, с поветями высокими, крепко строены, у каждой век долгий - все помнят, все знают. Уходит помор на карбасе, бежит по морю, видит деревня его темный широкий парус, знает: на тоню к себе побежал. Придут ли рыбаки на мотоботе с глубьевого лова, знает деревня и про них, с чем пришли и как ловились. Помрет старик древний, отмолят его по-своему, отчитают по древним книгам, повалят на песчаном угрюмом кладбище, и опять все видит деревня и вопли женок принимает чутко.
Никишку в деревне любят все. Какой-то он не такой, как все, тихий, ласковый, а ребята в деревне все «зуйки», настырные, насмешники. Лет ему восемь, на голове вихор белый, лицо бледное в веснушках, уши большие, вялые, тонкие, а глаза разные: левый пожелтей, правый побирюзовей. Глянет - и вот младенец несмышленый, а другой раз глянет - вроде старик мудрый. Тих, задумчив Никишка, ребят сторонится, не играет, любит разговоры слушать, сам говорит редко, и то вопросами: «А это что? А это почто?» - с отцом только разговорчив да с матерью.
Голос у него тонкий, приятный, как свирель, а смеется басом, будто немой: «гы-гы-гы!» Ребята дразнят его; как чуть что, бегут, кричат: «Никишка-молчун! Молчун, посмейся!» Сердится тогда Никишка, обидно ему, прячется в поветь, сидит там один, качается, шепчет что-то. А в повети хорошо: темно, не заходит никто, подумать о разном можно, и пахнет крепко сеном, да дегтем, да водорослями сухими.
Стоит конь оседланный возле Никишкиного крыльца…Стоит конь, дремлет, а деревня знает уже: собрался Никишка к отцу на тоню ехать за двадцать верст по сухой воде, мимо гор и мимо леса.
Выходит Никишка с матерью на крыльцо. Через плечо киса, на ногах сапоги, на голове шапка, шея тонкая шарфом замотана: холодно уже, на дворе октябрь.
Ступай все берегом, все берегом, - говорит мать. - В стороны не сворачивай, будут тебе по пути горы. Проедешь ты эти горы, а там тебе тропа сама покажет. Тут близко, не заблукай гляди-дак… Двадцать верст всего - близко!
Никишка молчит, сопит, мать плохо слушает, на коня лезет. Взбирается на седло, ноги в стремя, бровки сдвигает…
Тронулся конь, просыпается на ходу, уши назад насторчил, хочет понять, что за седок на нем нынче. Закачались мимо избы, подковы по мосткам затукали: тук-ток. Кончились избы, высыпали навстречу бани. Много бань - у каждого двора своя, - и все разные: хозяин хорош - и банька хороша, плох хозяин и банька похуже. Но вот и бани кончились, и огороды с овсом прошли, блеснуло справа море…
Литература:
Город в устье Двины./ Л.Шмигельский. - Северный рабочий. 1988.
Сказ о Беломорье. Словарь поморских речений. / К.П.Гемп. - М.: Наука; Архангельск: Помор. ун-т, 2004.
Зелье для государя. Английский шпионаж в России XVI столетия./ Л.Таймасова. - М.: Вече, 2010.
Год на Севере / Максимов С.В. - Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1984.
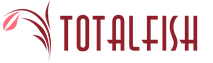










Основные достопримечательности Кестхея: фото и описание Кестхей: развлечения и активный отдых
Пхукет с детьми: где остановиться и чем заняться
Район «Имеретинская низменность» в г
ТОП российских озёр с необычными названиями
Лучшие пляжи острова Шри Ланка: фото, описание Такси из аэропорта до города